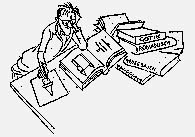| |
тел. (495) 728 - 3241; [email protected]
Вопрос 61 Политические идеи Н. И. Бухарина.
В своем “политическом завещании” -- “Письме к съезду” В. И. Ленин ценнейшим и крупнейшим теоретиком большевистской партии назвал Николая Ивановича Бухарина (1888--1938). Бухарин был популярен не только среди русских коммунистов, в Советской России, он приобрел и международную известность. Из его научных трудов по интересующей нас проблематике выделяются следующие: “Мировое хозяйство и империализм” (1915), “Экономика переходного периода” (1920), “Теория исторического материализма” (1923), “Учение Маркса и его историческое значение” (1933).
Твердо следуя текстам трудов Маркса, Энгельса, В. И. Ленина, Бухарин неизменно держался большевистских взглядов на классовость государства и права, функции и форму буржуазной государственности, диктатуру пролетариата, советское государство, их природу и предназначение.
Бухарин всегда защищал тот тезис, что “государство есть продукт классового расчленения общества. Будучи продуктом развития общества в целом, оно в то же время есть насквозь классовая организация”. Своим бытием государство выражает непримиримость составляющих общество классов. Ничего, кроме сугубой классовости, в государстве нет и быть не может, какого бы его аспекта ни касаться. Государство в облике особого аппарата публичной власти, в облике интегральной политической организации, охватывающей собой и вбирающей в себя все общество целиком, в облике определенным образом функционирующего механизма -- все это, для Бухарина, густо окрашено исключительно одним лишь только цветом -- цветом классовости. Всякие попытки разглядеть, отыскать в государстве еще некие иные тона, даже нейтральные, кажутся Бухарину идущими от лукавого, скрадывающими истинное знание о государстве в идеалистическом и, хуже того, в мистическом тумане.
В подобной манере изображается им право, которое он отождествляет с законодательством, создаваемым государством. “Машина угнетения... выступает под псевдонимом совокупности правовых норм, идеального комплекса, функционирующего в силу своей внутренней логики и убедительности. Такой фетишизм государственной власти и соответствующий ему специфический “ юридический кретинизм”, который рассматривает право как самодовлеющую общественную субстанцию, движущуюся исключительно логикой своих внутренних имманентных законов, застывает в систему "чистого права"”. Бухарин, естественно, не приемлет “чистого права”, разоблачает его (в полемике с Г. Кельзеном). Но при этом он обходит молчанием вопрос об относительной самостоятельности права (как системы, имеющей свою логику построения и движения) и желает доказать, что право лишь выполняет “работу по обслуживанию процесса эксплуатации”. Бухарин так и говорит: “Правила государственной организации, т. е. общеобязательные нормы поведения, за которыми стоит весь аппарат принуждения, охраняют и облегчают воспроизводство процесса эксплуатации того конкретно- исторического типа, который соответствует данному способу производства и, следовательно, данному типу государства”.
Тезисы о “беспримесной” классовости государства и права, о том, что миссия этих социальных институтов, по сути дела, полностью исчерпывается выполнением ими служебно-эксплуататорской, угнетательской функции, опираются на расхожий марксистский постулат, согласно которому политическая, государственная власть есть организованное насилие одного класса для подавления другого. Понимание государства (и права заодно) в качестве феномена насилия образует краеугольный камень и бухаринских суждений о государстве, доминирует в них.
Бухарин, как и все тогдашние правоверные большевики- ленинцы, превозносил значение насилия. В этом отношении ему случалось быть даже большим роялистом, чем сам король. Если у К. Маркса, например, насилие в действительной истории играет “большую роль”, то у Бухарина “на всем протяжении исторического процесса роль насилия и принуждения была чрезвычайно велика”. Если у К. Маркса “Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым”, то у Бухарина вообще вся “конкретная история есть история насилия и грабежа”.
В целом государственная власть в бухаринских текстах квалифицируется как концентрированное и организованное общественное насилие (определение К. Маркса), принимающее облик единодержавия, иными словами, диктатуры господствующего класса. Государство и диктатура -- вещи внутренне, органически связанные. По Бухарину, ни теоретически, ни практически невозможно государство, не являющееся диктатурой.
Взгляд Бухарина на любое государство (тем более на государство капиталистическое) как на диктатуру облегчал ему критику буржуазной демократии. Во-первых, она представляет собой -- если верить Бухарину -- целую систему демократических призраков, обманно-маскировочных институтов формально-юридического равенства всех; но данное равенство есть фикция, поскольку экономическое неравенство при капитализме делает формально-юридическое равенство нереализуемым. В другом месте Бухарин пишет, что основная посылка демократического устройства -- наличие совокупности фикций: на сей раз ею выступает понятие общенародной воли, общей воли нации, целого. Весь комплекс демократических учреждений покоится на иллюзорной “общенародности”.
Режим пролетарской диктатуры, которая монополизирует “все средства физического принуждения и духовной переработки людей”, призван решить две задачи. Одна -- уничтожение, выкорчевывание частнособственнических отношений, слом, разрушение буржуазной государственности, подавление классовых врагов пролетариата. Вторая задача -- осуществление пролетарской властью принуждения- трудящихся. В переходный период оно переносится диктатурой пролетариата (разумеется, подчеркивает Бухарин, в иных целях и в иных формах) вовнутрь, “на самих трудящихся и на сам господствующий класс”. Принципиальная установка здесь такова: “государственное принуждение при пролетарской диктатуре есть метод строительства коммунистического общества”. Этой установке Бухарин старался оставаться верным всегда.
Он считает, что “пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи”. Строки эти специальных комментариев не требуют. Процитированные строки взяты из X главы (“Внеэкономическое” принуждение в переходный период) труда Бухарина “Экономика переходного периода”. Как раз относительно нее В. И. Ленин, внимательно изучивший бухаринское произведение, с похвалой заметил: “Вот эта глава превосходна!”
В рассуждениях о диктатуре пролетариата Бухарин не обходит молчанием проблему демократии. “Диктатура пролетариата... является в то же время внутриклассовой пролетарской демократией... диктатура пролетариата, будучи его единодержавием, реально обеспечивает демократию для пролетариата”. Этакая демократия для своих, но не для чужих. Каким же практически способом обеспечивает своя диктатура демократию для своих? Делает она это тем, что прокламирует “экспроприацию экспроприаторов”, повышение жизненного и культурного уровня трудящихся, развертывание всех их внутренних сил и потенций... Но вот о целостной системе конкретных политико-юридических институтов, процедур, норм, являющихся предметноосязаемой формой “демократии для пролетариата”, Бухарин почти ничего не говорит.
Из отрицания гражданского общества и общенародной воли, парламентаризма и общенациональной конституции, равенства всех перед законом и судом, прав большинства и меньшинства и т. д. никогда никакой демократии для трудящихся не родится. На могиле “низшего типа” демократии “высший тип” демократии не вырастает.
Бухаринская методология анализа политико-юридических институтов во многом строилась на квазидиалектической максиме -- “ все наоборот”, “в одну и ту же эпоху принципиально другая классовая форма общества меняет математический знак всего развития, заменяя минусы плюсом, а плюсы минусом”. Подобного сорта методология порывала с подлинным содержанием и логикой исторической эволюции мира власти, государства и права.
Бухарин стал одной из многочисленных жертв большевистско-террористического режима. Но и то правда, что он сам немало потрудился для создания, упрочения и теоретического “освящения” этого режима.
Вопрос 62. Политические взгляды И. В. Сталина.
С середины 20-х гг. почти на три последующих десятилетия роль главного охранителя и толкователя ленинских идей, лидирующего теоретика большевизма присвоил себе Иосиф Виссарионович Сталин (1879--1953) -- Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Сейчас могут иметь место разные мнения относительно того, сколь успешно справился Сталин в целом с данной ролью. Представляется, однако, очевидным: в области собственно политической теории и практики она ему (с незначительными, второстепенными оговорками) удалась. “Удалась” в каком конкретно смысле? В том, что Сталин действовал здесь, в упомянутой области, в соответствии с истинным пафосом ленинизма. Не страдала сильным преувеличением формула, которая долго у нас культивировалась: “Сталин -- это Ленин сегодня”.
Едва ли не наиболее яркая особенность интеллекта Сталина -- упрощенное восприятие и изображение социального мира, самых различных общественных явлений. Он не был склонен видеть реальность многомерной, сложной и внутренне противоречивой. Научно-теоретический анализ как таковой (со всеми присущими подобному анализу атрибутами) оказался делом, чуждым сталинской мысли. Ее органика -- схематическое описание предметов и событий, безыскусное называние вещей, перечисление их сторон, свойств и уровней, формулирование дефиниций и проч.
Вследствие упрощенного восприятия и изображения Сталиным социального мира тексты, которые вышли из-под его пера, несут на себе печать догматизма. Отдельные положения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина используются в них как непререкаемые истины; отсутствуют фигуры сомнения, крайне редки гипотезы и их обсуждение; почти нет попыток выявить и по достоинству оценить сильные, конструктивные позиции оппонентов. Эти тексты насквозь пропитывает вера их автора в свою правоту и непогрешимость. Они отличаются жестким категоричным слогом, что придает им форму чуть ли не официальных директивных документов, обязательных к принятию и исполнению.
Первоочередной интерес представляют работы Сталина “Об основах ленинизма” (1924), “К вопросам ленинизма” (1927), “О проекте Конституции Союза Сер” (1936), “Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКЩб)” (1939).
Сталинское кредо заключено в тезисе, согласно которому “ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности”. Сталин, чтобы не допускать никаких разночтений, затем уточняет: “...основным вопросом ленинизма, его отправным пунктом, его фундаментом является вопрос о диктатуре пролетариата”. Далеко не случайно выпячивает Сталин идею диктатуры пролетариата. С расчетом выстраивает он по существу вокруг нее одной весь комплекс ленинских взглядов, а шире -- спирает на нее марксизм в целом. Данная идея предоставила Сталину максимально благоприятные возможности для укрепления культа власти в послеоктябрьской России и вместе с тем для достижения упомянутой выше личной цели.
В диктатуре пролетариата Сталин выделяет несколько ее аспектов. Прежде всего и главным образом он усматривает в ней власть, которая жизнедействует как насилие, подавление, принуждение. Насилие в любых ситуациях остается имманентным и важнейшим признаком пролетарской диктатуры.
Верно, у Сталина встречаются заявления относительно того, что не всегда и не везде диктатура пролетариата суть исключительно насилие. Однако они -- пустые фразы, употребляемые ради отвода глаз, прикрытия репрессивного большевистского режима. Для верного ученика Ленина “диктатура пролетариата есть не ограниченное законом и опирающееся на насилие господство пролетариата над буржуазией, пользующееся сочувствием и поддержкой трудящихся и эксплуатируемых масс”. Господство, опирающееся на насилие и не ограниченное законом, неизбежно вырождается в голый произвол и тоталитарную власть, железная пята которой давит все и всех.
Еще один аспект диктатуры пролетариата, по Сталину,-- организационный. Пролетарская революция, утверждает он, не достигнет намеченных целей, если не создаст “специального органа в виде диктатуры пролетариата в качестве своей основной опоры”. Чем же в осязаемо-предметном воплощении является диктатура пролетариата теперь как “специальный орган” пролетарской революции? Она представляет собой “новое государство, с новыми органами власти в центре и на местах, государство пролетариата, возникшее на развалинах старого государства, государства буржуазии”. Обозначает Сталин и иные аспекты диктатуры пролетариата. Например, социальный (союз рабочего класса с крестьянством), хронологический (“целая историческая эпоха” перехода от капитализма к коммунизму) и др.
Свой взгляд на природу государства вообще Сталин формулирует так: “Государство есть машина в руках господствующего класса для подавления сопротивления своих классовых противников”. Весьма немудреная мысль. Но предельно доходчивая, доступная разумению “простого человека”. Ему, собственно, она и адресована.
Под стать общей квалификации природы государства, механически повторенной Сталиным вслед за прежними поколениями марксистов, предложенная им оценка основных функций всякого допролетарского государства. “Две основные функции характеризуют деятельность государства: внутренняя (главная) -- держать эксплуатируемое большинство в узде и внешняя ( неглавная) -- расширять теорриторию своего, господствующего класса за счет территории других государств, или защищать территорию своего государства от нападений со стороны других государств”. В приведенных высказываниях государство, во-первых, неправомерно сведено к государственной машине, т. е. лишь к одной из его организационных структур; во-вторых, явно обеднена палитра выполняемых им функций: проигнорированы интеграция общества, ведение общесоциаль- ных дел и т. д.
На “развалинах старого государства”, учит Сталин, возникает советская власть, т. е. пролетарская государственность, государственная форма диктатуры пролетариата. Конституируется советская власть в соответствии с иными принципами, нежели старое буржуазное государство. На мусорную свалку истории отправляет диктатура пролетариата, в частности, территориальный принцип организации государства, принцип разделения властей, “буржуазный парламентаризм” и др. Советская власть объединяет законодательную и исполнительную власти в единой государственной организации, заменяет территориальные выборные округа производственными единицами (заводами, фабриками), связывает трудящиеся массы с аппаратом государственного управления, учит их управлению страной.
“Новый тип государства” есть вместе с тем новый исторический тип демократии -- демократии пролетарской, советской, которая радикально отличается от демократии буржуазной и превосходит последнюю. В чем выражается, по Сталину, это превосходство? Как и Ленин, он видит таковое в том, что советская власть привлекает массы к постоянному и решающему участию в управлении государством, чего трудящиеся были лишены в условиях буржуазно-демократического строя.
Собственное неприятие демократических норм и процедур политической жизни в советское время Сталин пытается оправдать якобы незрелостью тех, кто хочет иметь демократические порядки. Демократия “требует некоторого минимума культурности членов ячейки и организации в целом и наличия некоторого минимума активности работников, которых можно выбирать и ставить на посты. А если такого минимума активности не имеется в организации, если культурный уровень самой организации низок -- как быть? Естественно, что здесь приходится отступать от демократии...”. Однако сам Сталин отступает от демократии отнюдь не в силу только что обозначенных причин. Коренная причина -- другая. Критикуя оппозиционеров внутри большевистской партии, ведущих “безудержную агитацию за демократию”, он обвиняет их в “развязывании мелкобуржуазной стихии”. Ясно, что для ортодоксального ленинца “мелкобуржуазная стихия” (а следовательно, и демократия) -- смертельный враг.
Для Сталина демократия не связана с реализацией индивидом всей совокупности принадлежащих ему гражданских и политических, социально-экономических и культурных прав и свобод. Индивида, отдельную личность он всегда считал величиной малой и нестоящей; человек был для него в лучшем случае “винтиком”. Еще в 1906 г. в цикле статей “Анархизм или социализм?” Сталин утверждал, что масса -- краеугольный камень марксизма и освобождение массы есть ключевое условие освобождения личности; отсюда и лозунг марксизма: “Все для массы”. Тридцать лет спустя, в 1936 г., Сталин в беседе с группой работников ЦК ВКЩб), отвечавших за подготовку учебников, подчеркнул: “Наша демократия должна всегда на первое место ставить общие интересы. Личное перед общественным -- это почти ничего”. Сталинская версия демократии идеологически санкционирует уничижение индивида, превращает его права и свободы в пустые, никчемные категории.
Посредством каких методов “партия управляет страной” (а если прямее и точнее -- осуществляет свою диктатуру)? “Ни один важный политический или организационный вопрос не решается” государственными организациями, общественными объединениями “без руководящих указаний партии”. Она (и только она) ставит на все мало-мальски значимые посты в государстве и обществе преданных ей людей (“номенклатура”). Партия подчиняет себе госаппарат также тем, что “вдвигает свои щупальца во все отрасли государственного управления”. Ослушникам ее воли грозит “карающая рука партии”.
Особо отстаивал Сталин ленинский тезис о том, что большевистской партии уготовано монопольно обладать всей полнотой захваченной ею власти. “Руководителем в системе диктатуры пролетариата является одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не может делить руководства с другими партиями”. В данном вопросе Сталин пошел даже дальше Ленина. “Сталинская Конституция” (1936 г.) впервые на официальном уровне признает и юридико-нормативно закрепляет привилегированно-монопольное положение “боевого штаба рабочего класса” в советском обществе. Ст. 126 той Конституции гласила: коммунистическая партия есть “руководящее ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных”.
С включением такой записи в Основной Закон страны можно считать, что Сталин в общем завершил создание в рамках ленинизма идеологии тоталитарной политической системы. Его суждения о фазах развития и функциях советского государства, о национально-государственном устройстве Советского Союза, об отмирании социалистического государства (через укрепление карательных органов последнего) и некоторые другие принципиально ничего не меняют в этой идеологии. Она явилась закономерным результатом эволюции большевистской политической мысли.
Вопрос 63. Правопонимание советского времени.
История правовой и политической мысли советского периода --это история борьбы против государственности и права в их некоммунистическом смысле и значении, против “юридического мировоззрения” как сугубо буржуазного мировоззрения, история замены правовой идеологии идеологией пролетарской, коммунистической, марксистско-ленинской, история интерпретации учреждений и установлений тоталитарной диктатуры как “принципиально нового” государства и права, необходимых для движения к коммунизму и вместе с тем “отмирающих” по мере такого продвижения к обещанному будущему.
Право как орудие диктатуры пролетариата. Концепцию нового, революционного, пролетарского права как средства осуществления диктатуры пролетариата активно развивал и внедрял в практику советской юстиции Л И. Курский, нарком юстиции в 1918--1928 гг.
Право в условиях диктатуры пролетариата -- это, согласно Курскому, выражение интересов пролетариата. Здесь, по его признанию, нет места для “норм вроде Habeas Corpus”, для признания и защиты прав и свобод индивида.
Новое, революционное право, по Курскому, это “пролетарское коммунистическое право”. Советская власть, поясняет он, разрушила “ все три основы института буржуазного права: старое государство, крепостную семью и частную собственность... Старое государство заменили Советами; на смену крепостной и кабальной семье приходит семья свободная и насаждается общественное воспитание детей; частная собственность заменена собственностью пролетарского государства на все орудия производства ”.
Реализация этих положений в действительности предстала в виде “военного коммунизма”, который даже по оценке Курского был “по преимуществу системой принудительных норм”.
Право -- порядок общественных отношений. Заметную роль в процессе зарождения и становления советской теории права сыграл п. И. Стучка. По его собственной оценке, “решающее значение” для всего его подхода к праву имела статья Ф. Энгельса и К. Каутского “Юридический социализм”. Содержащаяся в этой статье трактовка юридического мировоззрения как классического мировоззрения буржуазии, отмечал Стучка, стала одним из основных доводов “для необходимости нашего нового правопонимания”.
Основными началами такого нового, революционно-марксистского правопонимания Стучка считал: 1) классовый характер всякого права; 2) революционно-диалектический метод (вместо формальной юридической логики); 3) материальные общественные отношения как базис для объяснения и понимания правовой надстройки (вместо объяснения правовых отношений из закона или правовых идей). Признавая при этом “необходимость и факт особого советского права”, Стучка усматривал эту особенность в том, что “советское право” есть “пролетарское право”.
Эта идея вытеснения права (как буржуазного явления) планом ( как социалистическим средством) имела широкое распространение и, по сути дела, отражала внутреннюю, принципиальную несовместимость права и социализма, невозможность юри- дизации социализма и социализации права.
В классово-социологическом подходе Стучки понятия “система”, “ порядок”, “форма” лишены какой-либо юридической специфики и собственно правовой нагрузки. Отсюда и присущие его позиции сближения или даже отождествления права с самими общественными, производственными, экономическими отношениями.
Меновая концепция права-Для большинства советских марксистских авторов послереволюционного времени, как и для Стучки, классовый подход к праву означал признание наличия так называемого пролетарского права.
По-другому классовый подход к праву был реализован в трудах Е. Б. Пашуканиса, и прежде всего в его книге “Общая теория права и марксизм. Опыт критики основных юридических понятий” (1-е издание -- 1924 г.). В этой и других своих работах он ориентировался по преимуществу на представления о праве, имеющиеся в “Капитале” и “Критике Готской программы” Маркса, “Анти-Дюринге” Энгельса, “Государстве и революции” Ленина. Для Пашуканиса, как и для Маркса, Энгельса и Ленина, буржуазное право -- это исторически наиболее развитый, последний тип права, после которого невозможен какой-либо новый тип права, какое-то новое, послебуржуазное право. С этих позиций он отвергал возможность “пролетарского права”.
По характеристике Пашуканиса, всякое юридическое отношение есть отношение между субъектами. “Субъект -- это атом юридической теории, простейший, неразложимый далее элемент”.
Правопонимание при таком негативном подходе к праву вообще с позиций коммунистического отрицания его как буржуазного феномена, по сути дела, предстает как правоотрицание. Познание права подчинено здесь целиком целям его преодоления. Это антиюридическое мировоззрение в том или ином виде нашло свое воплощение и реализацию в правовом нигилизме всей послереволюционной теории и практики социальной регуляции.
Психологическая концепция классовою права. Представления о классовом праве, включая и классовое пролетарское право, с позиций психологической теории права развивал М. А. Рейсмер. Еще до революции он начал, а затем продолжал классовую интерпретацию и переработку ряда идей таких представителей психологической школы права, как Л. Кнапп и Л. Петражицкий.
Свою заслугу в области марксистского правоведения он видел в том, что учение Петражицкого об интуитивном праве поставил “на марксистское основание”, в результате чего “получилось не интуитивное право вообще, которое могло там и здесь давать индивидуальные формы, приспособленные к известным общественным условиям, а самое настоящее классовое право, коmopoe в виде права интуитивного вырабатывалось вне каких бы то ни было официальных рамок в рядах угнетенной и эксплуатируемой массы”.
В целом, согласно Рейснеру, “право, как идеологическая форма, построенная при помощи борьбы за равенство и связанную с ним справедливость, заключает в себе два основных момента,-- а именно, во-первых, волевую сторону или одностороннее “ субъективное право” и, во-вторых, нахождение общей правовой почвы и создание при помощи соглашения двустороннего “ объективного права”. Лишь там возможна правовая борьба, где имеется возможность нахождения такой почвы”.
Именно в условиях военного коммунизма так называемое социалистическое право рабочего класса, по верной оценке Рейс- пера, “делает попытку своего наиболее яркого воплощения”.
При нэпе же, с сожалением отмечал Рейснер, пришлось “усилить примесь буржуазного права и буржуазной государственности, которые и без того естественно входили в состав социалистического правопорядка”.
Вся история права -- это, по Рейснеру, “история его угасания”. При коммунизме оно угаснет навсегда.
Право как форма общественного сознания. Такой подход к праву в 20-х гг. развивал И. п. Разумомкий. При этом он отмечал, что “вопросы права и связи его с экономической структурой общества, послужившие, как известно, в свое время отправным пунктом для всех дальнейших теоретических построений Маркса, это -- осмоамм допросы марксистской социологии, это лучший пробный камень для проверки и подтверждения основных предпосылок марксистской диалектической методологии”.
Как идеологическое опосредование (идеологическая форма) классовых материальных (экономических) отношений право, по Разумовскому, это форма общественного сознания. Он дает следующее общее определение права как идеологического способа и порядка опосредования материальных отношений в классовом обществе: “Порядок общественных отношений, в конечном счете отношений между классами, поскольку он отображается в общественном сознании, исторически неизбежно абстрагируется, отдифференцировывается для этого сознания от своих материальных условий и, объективируясь для него, получает дальнейшее сложное идеологическое развитие в системах "норм"”.
Бросается в глаза отсутствие в этом определении права какого-либо признака, специфичного именно для права.
В целом трактовка Разумовским права как идеологического явления в условиях послереволюционной ситуации и диктатуры пролетариата была ориентирована на нэповский вариант пролетарского использования буржуазного права.
Борьба на “правовом фронте”. Конец 20-х и первая половина ЗО-х гг. (вплоть до совещания 1938 г. по вопросам науки советского государства и права) отмечены обострением борьбы различных направлений правопонимания в советской юридической науке.
Концепция “социалистического права”. Победа социализма требовала нового осмысления проблем государства и права с учетом постулатов доктрины и реалий практики.
В этих условиях Пашуканисом в 1936 г. была выдвинута концепция “социалистического права”. Открещиваясь от своей прежней позиции, от концепции “буржуазности” всякого права и т. д. как “антимарксистской путаницы”, он начал толковать советское право как право социалистическое с самого начала его возникновения. “Великая социалистическая Октябрьская революция,-- пояснял он,-- нанесла удар капиталистической частной собственности и положила начало новой социалистической системе права. В этом основное и главное для понимания советского права, его социалистической сущности как права пролетарского государства”.
Концепция “социалистического права” была в условиях победы социализма (на путях насильственной коллективизации, ликвидации кулачества и вообще “капиталистических элементов” в городе и деревне и в конечном счете полной социализации средств производства в стране) естественным продолжением представлений о наличии какого-то небуржуазного (пролетарского, советского) права.
Официальное “правопонимание” (Совещание 1938 г.). В истории советской юридической науки особое место занимает “I Совещание по вопросам науки советского государства и права” (16--19 июля 1938 г.). Его организатором был подручный Сталина на “правовом фронте” А. Я. Вышинский, тогдашний директор Института права и одновременно Генеральный прокурор СССР -- одна из гнуснейших фигур во всей советской истории.
Цели и задачи Совещания состояли в том, чтобы в духе потребностей репрессивной практики тоталитаризма утвердить единую общеобязательную “единственно верную” марксистско- ленинскую, сталинско-большевистскую линию (“генеральную линию”) в юридической науке и с этих позиций переоценить и отвергнуть все направления, подходы и концепции советских юристов предшествующего периода как “враждебные” и “антисоветские”.
В первоначальных тезисах к докладу Вышинского (и в его устном докладе) формулировка нового общего определения выглядела так: “Право -- совокупность правил поведения, установленных государственной властью, как властью господствующего в обществе класса, а также санкционированных государственной властью обычаев и правил общежития, осуществляемых в принудительном порядке при помощи государственного аппарата в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных господствующему классу”.
Наряду с таким общим определением права на Совещании было одобрено и следующее определение советского права: “Советское право есть совокупность правил поведения, установленных в законодательном порядке властью трудящихся, выражающих их волю и применение которых обеспечивается всей принудительной силой социалистического государства, в целях защиты, закрепления и развития отношений и порядков, выгодных и угодных трудящимся, полного и окончательного уничтожения капитализма и его пережитков в экономике, быту и сознании людей, построения коммунистического общества”.
Этот тип понимания, определения и трактовки “права”, по существу, сохранился и после того, как с начала 60-х гг. по аналогии с “советским социалистическим общенародным государством” стали говорить о “советском социалистическом общенародном праве”.
Новые подходы к праву. Уже с середины 50-х гг., в обстановке определенного смягчения политического режима и идеологической ситуации в стране, некоторые юристы старшего поколения воспользовались появившейся возможностью отмежеваться от определения права 1938 г., начали критику позиций Вышинского и предложили свое понимание и определение социалистического права. Монополия официального “правопонимания” была нарушена.
В противовес “узконормативному” определению права было предложено понимание права как единства правовой нормы и правоотношения (С. Ф. Кечекьян, А. А. Пионтковский) или как единства правовой нормы, правоотношения и правосознания (Я. Ф. Миколенко).
При этом правоотношение (и связанное с ним субъективное право -- в трактовках Кечекьяна и Пионтковского) и соответственно правоотношение и правосознание (Миколенко) предстают как реализация и результат действия “правовой нормы”, производные от нее формы и проявления права. Исходный и определяющий характер “правовой нормы”, т. е. нормативность права в смысле определения 1938 г. и последующей “официальной” традиции, следовательно, продолжали признаваться, но эту нормативность предлагалось дополнить моментами ее осуществления в жизни.
Одновременно данная концепция содействовала анализу и уяснению тех условий и предпосылок, при которых вообще возможны право, правовой закон, правовое государство. Речь, по существу, шла о разработке правовых ориентиров для преобразований и преодоления сложившегося правоотрицающего строя. Тем самым эта юридическая концепция правопонимания нацеливала на поиски пути к постсоциалистическому праву в общем контексте всемирно-исторического прогресса, свободы, равенства и права.
Вопрос 64 Политическая и правовая мысль Арабского Востока
В период создания арабского государства (VII в.) возникла религиозно-политическая идеология—«ислам», что значит «предание себя богу», покорность. Последователи этой идеологии получили название муслимов (мусульман), т. е. «предавших себя богу».
Ислам, впитавший в себя религиозно-политические представления ряда религий (иудаизма, христианства и др.), обосновывает идею теократии, превосходства духовной власти над светской, идею верховенства церкви. Теократизм — характернейшая черта политических идей, изложенных в коране—важнейшем источнике начального ислама. Аллах (единый бог) и его посланник, управляющий людьми по божественной воле, определяют, по корану, Положение власти и ее задачи. В угоду власть имущим коран обращается к верующим с требованием:
«Повинуйтесь аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас». Коран обосновывает необходимость общественного и политического неравенства, объясняя это «божественным предопределением». Рассматривая соотношение властвующих и подвластных, коран отмечает, что божество возвышает «одних степенями над другими, чтобы одни из них брали других в услужение».
Начальный ислам исходит из того, что вся светская и духовная власть принадлежит «пророку», а после его смерти—халифам (заместителям пророка). Однако, если при первых халифах верховная власть носила ярко выраженный чисто теократический характер, когда «божьим» называлось даже имущество государства, то после 945 г. действительная власть переходит к светским правителям—султанам, тогда как халифам, имамам и иным духовным владыкам оставляется лишь религиозный авторитет.
Идея богоустановленности царской власти—одна из центральных в коране. «Аллах послал... Талута (Саула.—Э. Р ) царем... Аллах его избрал над вами и увеличил ему широту в знании и теле Поистине, Аллах дарует свою власть, кому пожелает». «Если бы, — говорится в другом месте корана, — не удерживание Аллахом людей друг от друга, то пришла бы в расстройство земля». Цари провозглашали себя непосредственными выразителями божественной воли. В период острой борьбы между духовной и светской властью светские правители для обоснования превосходства своей власти над духовной выдвигают идею о том, что повиновение им является религиозной обязанностью мусульман. В связи с этим Мухаммеду было приписано изречение: «Бог сдерживает большее число людей посредством султана, чем посредством корана». Это обоснование превосходства светской власти над духовной было выражением скрытые в самом коране, начальном исламе, тенденций. Ведь уже ранний ислам внушал необходимость подчинения светской власти, без которой не, может держаться религия. «Если бы,— говорится в коране,—не защита Аллахом людей одних другими, то разрушены были бы скиты, и церкви, и места молитвы, и места поклонения». Таким образом, положение ислама о необходимости повиновения властям аналогично положению христианской религии, вложенному в уста апостола -Павла:, «Нет власти не от бога».
Коран, являющийся-важнейшим источником мусульманского права, обосновывает необходимость охраны частной собственности. Согласно мусульманскому праву, лица, посягающие на частную собственность, подвергаются жестоким наказаниям со стороны государства.
Политическая идеология корана вполне созвучна понятию ислама. Альфа и омега этой идеологии — покорность и смирение. Смысл существования не в земной жизни, а в потустороннем мире. Поэтому каждый благочестивый мусульманин, желающий попасть в рай, должен переносить насилие, бедность, все невзгоды со смирением. В противном же случае его ждет наказание не только в земной, но и вечная кара в загробной жизни.
Результатом обострения противоречий и классовой борьбы в халифате, противоречий между различными социальными группами мусульман, духовной и светской знатью, а, также между арабскими завоевателями и покоренными народами было появление разных направлений и сект в исламе, вырабатывавших различные политические идеи. Сектантское движение часто служило выражением оппозиции угнетенных масс, выступавших под религиозной оболочкой против феодальной эксплуатации и политического господства феодалов, освящаемых официальным исламом, или оппозиции недовольных групп господствующего класса.
Основными направлениями ислама являются суннизм и шиизм Сунна — это «священное предание», дополнение к корану, призванное идеологически оправдать новые потребности господствующего класса, которые не могли быть предусмотрены в коране, но которые, как утверждают ее авторы.; предвиделись пророком. Представители суннизма свое учение строят на этих двух основных источниках, оправдывающих классовое неравенство, гнет и эксплуатацию трудящихся. Своим духовным главой сунниты считают халифа.
В отличие от суннитов шииты, имевшие наибольшее влияние в Ираке и Иране, по-своему трактуют ряд положений корана, противопоставляя свое «священное предание» суннитскому. Они выдвинули положение о династии 12 имамов, потомков четвертого халифа Али (зятя Мухаммеда). По учению шиитов двенадцатый им'ам «скрылся» для того, чтобы вновь вернуться на землю и принести с собой справедливость, равенство и правду. Народные массы призывались к терпеливому перенесению всяких невзгод в ожидании пришествия «скрытого имама».
Аналогична идея суннитов о приходе на землю «махди» («тот, кого аллах ведет путем истинным»), который установит равенство и справедливость. Эта идея использовалась и угнетенными массами, выдвигавшими из своей среды «божественного спасителя», становившегося во главе антифеодального движения. В результате идея махдизма использовалась как знамя антифеодальных восстаний, а впоследствии — как знамя борьбы против колонизаторов.
В обоих направлениях возникли секты, выражавшие в той или иной степени интересы угнетенных масс, бывшие одной из форм их активного протеста против феодальной эксплуатации.
Одной из первых была секта хариджитов, выдвинувших идею выборности халифа всей мусульманской общиной, независимо от социального положения и национальности любого благочестивого мусульманина. Эта идея, направленная против правящей верхушки халифата, содержала в зародыше тезис о народном верховенстве. Именно она, а также мысль о равноправии мусульман привлекла трудящиеся массы в ряды хариджитов. Хариджиты требовали возвращения к «первоначальному исламу», под которым понимали строй социального равенства. Важное общественно-политическое значение имела идея хариджитов о том, что мусульманская община обязана своим повиновением избранному ею государю до тех пор, пока он не нарушает предписаний веры. В противном случае община имеет право на свержение и даже убийство тирана. Хариджиты подвергались преследованиям, и даже лицу, сочувствующему ха-риджитам, угрожала виселица.
Секта исмаилитов, возникшая в шиитском направлении, опиралась на антифеодальное движение крестьян и городской бедноты. Учение этой секты стало идеологическим оружием ряда восстании против господствующего класса. Движение крестьян и бедуинов IX—XI вв. (в Сирии, Хорасане, Бахрейне, Ираке и др.) использовало идеи исмаилитов об общности имущества, передаче земель сельским общинам, о социальном равенстве. Ограниченность взглядов восставших заключалась в том, что эти идеи не распространялись ими на рабов.
Господствующий класс арабского халифата вел ожесточенную борьбу против этих и иных сект.
Политическая идеология ислама подверглась критике не только в учениях сект угнетенных мусульманских масс и поко-_ренных народов, но и в политических трактатах и иных произведениях прогрессивных мыслителей. Для передовой арабской мысли характерен рационализм, стремление отделить политику от религии, «жизнерадостное свободомыслие».
Таким жизнерадостным свободомыслием отмечены 'идеи выдающегося арабского мыслителя ан-Наззама (801—837), остро критиковавшего ислам. Прогрессивной, в условиях господства в халифате теократической, -идеологии, была идея мыслителя о просвещенной монархии. По его мнению, в государственных делах не должно быть никаких религиозных законов. При этом ан-Наззам высказывался в защиту свободы совести и мысли, что подрывало основы идеологии ислама.
Передовые политические идеи развиты в произведениях великого арабского поэта и мыслителя Абу-ль-Ала аль-М-аарри (973—1057). Он подверг критике религиозное мировоззрение, призванное прикрывать угнетение трудящихся масс. Свобода, по убеждению мыслителя, несовместима с божеством, с религией. Более того, мыслитель считает, что именно с появлением религии возникла вражда между людьми.
Маарри выступает против всей системы феодального общественного и политического строя. Он считает, что на богатстве основана государственная власть, действующая в интересах богатых. Выступая против угнетения масс, Маарри призывает установить имущественное и социальное равенство.
Он отстаивает положение о том, что все люди обладают естественным равенством. Согласно его трактовке государственной власти, народ избирает себе правителя в своих интересах. Поэтому не народ должен быть слугой правителя, а правитель является слугой народа. Для политических взглядов Маарри характерна идея народного верховенства. Правитель должен избираться народом, в ином случае устанавливается деспотизм.
Острой критике подвергает Маарри политический строй современных ему государств. Так, характеризуя обстановку в Багдаде, он говорил: «Дело государей—пьянство, дело знати — собирание налогов, дело вождей — ограбление чужого богатства и прелюбодеяние». Он разоблачает угнетательский характер различных государственных органов, протестует против насильственных действий государственных чиновников, судей, против тиранов, подавляющих народ. Критикуя беззаконие правителей, Маарри выступает против всей системы феодального права, закрепляющего в его нормах неравенство между людьми. Законы же, считает мыслитель, должны соответствовать разуму людей, а не устанавливать неравенство, не превращать людей в рабов.
Критика мыслителем современного ему политического строя, феодального права и религии, его идеи естественного равенства людей имели огромное прогрессивное значение. Хотя призывы Маарри к борьбе со злом проникнуты пессимизмом, тем не менее его идеи оказали влияние на развитие передовой политической мысли Арабского Востока.
Наряду с произведениями, в которых резко осуждается религиозный фанатизм и социально-политическое неравенство, появляются многочисленные политические трактаты, в которых излагаются правила разумного государственного управления и значительное место занимает мысль об ограничении произвола государя. Это вызвано, в частности, стремлением ослабить классовую борьбу. К числу таких политических трактатов относится трактат Мухаммеда-бен-Али-бен-Табатаба, известного под именем ибн-Тиктака, «Правила для государей и рассказы о мусульманских династиях», созданный в начале XIV в.
В трактате обосновывается идея просвещенного правления, говорится о необходимости правосудия, милости к слабому, сострадания к бедному и беспомощному. Видимо, опасаясь преследований, автор в первом отделе трактата говорит, что он не будет рассматривать вопросы происхождения государства, соотношения между властями духовной и светской и др. Свою задачу он видит в том, чтобы предложить мероприятия для укрепления государства и исправления нравов и образа жизни. Поставленная в трактате задача дает основание полагать, что, видя жестокость султанов, эмиров и иных правителей, некоторые мыслители пытались своими наставлениями образумить тиранов, направить их деятельность по пути умеренного правления.
Политическим идеалом автора является просвещенная монархия. Он пишет о качествах, необходимых мудрому правителю, относя к ним управление на основе разума и знания, стремление вникать в дела народа. Рассматривая вопрос об отношениях правителя и управляемых, ибн-Тиктак говорит об их взаимных правах и обязанностях. «Знайте,—пишет он,— что у государя есть права в отношении подданных, а у подданных есть также права в отношении к государю». Несмотря на то что автор к числу обязанностей народа относит повиновение (приводя соответствующее положение корана), сама постановка вопроса об обязанностях государя в отношении подданных в условиях феодального произвола и тирании имела огромное прогрессивное значение. В частности, в трактате вменяется в обязанность государю мягкое обращение с народом, справедливое отношение к людям простого звания. Особенно обращается внимание на разумность наказаний и на необходимость справедли-вого правосудия, которое должно быть одинаковым для знатных и простых людей.
Вопрос 65. Учение Холмса о праве.
Оливер Вендел Холмс (1841--1935) родился в Бостоне в семье известного поэта. Он успел стать участником Гражданской войны, где был трижды ранен. Свое философское и юридическое образование получил в Гарварде. Самый творческий период его жизни приходится на 1882--1902 гг., когда он вначале стал членом Верховного суда в Массачусетсе, а затем и Верховного суда США. Президенту Т. Рузвельту, который рекомендовал его в члены Верховного суда США, сильно импонировали его послужной список и “солдатская судьба”.
Между тем сам Холмс готовил себя не в практикующие юристы, а в исследователи. После окончания университета он читает лекции по конституционному праву в Гарварде, редактирует юридический журнал. Его классическая работа “Общее право” возникла на основе курса лекций. Именно здесь была зафиксирована известная формула о том, что “жизнь права не имеет логики: она имеет опыт”. Истоки права, согласно Холмсу, следует искать в желаниях примитивного человека взять реванш у тех, кто причинил ему какой-либо ущерб. Отсюда следует, что развитие права неизбежно зависит от превалирующих условий человеческого бытия: от насущных потребностей данного периода, преобладающих моральных и политических теорий, от чутья в области политической деятельности, уверенных или же неосознанных влечений, даже предрассудков, которые судья разделяет вместе со своими коллегами. Подобные условия в состоянии сделать гораздо больше для выработки правил по управлению человеческим общением, чем какие-либо силлогизмы.
Конституция страны для Холмса -- это своего рода социальный эксперимент, и в этом смысле она сравнима с человеческой жизнью, которую тоже можно рассматривать как своеобразный эксперимент. В работе “Путь права” (1897) он в духе господствовавшего тогда прагматизма заявил, что объект изучения в праве составляет “предсказание сферы применения публичной силы через посредство суда”. Чтобы познать право как таковое, человек должен отказаться от моральных и чисто формальных соображений и взглянуть на себя как на внеморального субъект та, который заботится лишь о тех материальных приобретенияхк либо утратах, о которых ему в состоянии-предсказать такое знание.
С учетом изложенного Холмс выстраивает такое определение права: право есть не что иное, как предсказание того, каким образом будет действовать суд на практике. Представление о законном праве (как и о законной обязанности) связано с предсказанием о том, как будет наказан человек в том или другом случае по решению суда, если он сделает или не сделает то, что надо сделать. Рассматривая право как серию предсказаний, он сближал его с эмпирической наукой. Конечная цель науки, в том числе юридической,-- определять относительную ценность наших различных социальных целей.
Воззрение на право Холмса не расходилось с установками позитивистов на технико-вспомогательные свойства властно- принудительных дозволений или запретов закона, однако в нем было несравненно больше реализма за счет признания право- творческой роли суда и иной правоприменительной деятельности. В праве, говорил Холмс, как и в любой другой области человеческого общения, индивид может в полной мере ощутить или проявить всю полноту своих чувств и своих намерений: он может излить свой гнев на жизнь, он может испить здесь горькую чашу героизма, он может износить свое сердце в погоне за недостижимым. В этом обобщении много справедливого, поскольку право не воспринималось и не воспринимается философско-правовой традицией неким вспомогательным орудием правления, но всегда соизмеряется с добром, справедливостью и общим благом.
Жизнь права, по мнению Холмса, неизбежно зависит от превалирующих условий человеческого существования-- насущных потребностей данного момента или периода, преобладающих моральных и политических убеждений и представлений, от наличия интуиции и ее использования в политической деятельности, от явных или же неосознаваемых влияний, даже предрассудков, которые судья разделяет вместе со своими коллегами. Эти условия в состоянии сделать гораздо больше и повлиять гораздо сильнее, чем какие-либо силлогизмы формально-юридического характера, а потому следует принимать как аксиому -- “жизнь права не имеет логики; она имеет опыт”.
Связь концепции Холмса с прагматизмом как философии действия (сам термин введен В.Джемсом) более всего прослеживается в его восприятии истины. Истина предстает не в виде непререкаемого абстрактного абсолюта, а в тех формах, в каких она проявляет себя в процессе практического использования, в ходе осуществления своей функции руководства к действию и т.д. Правовой прагматизм Холмса оказал впоследствии заметное влияние на становление социологической юриспруденции Р.Паунда и на доктрину “правовых реалистов” (Дж. Франк, К.Ллевелин и др.).
Вопрос 66. Политико-правовая теория И. Фихте.
Во взглядах выдающегося философа и общественного деятеля Иоганна Готлиба Фихте.(1762--1814) двойственность и противоречивость политических тенденций немецкого бюргерства сказались гораздо отчетливее, ярче, разительнее, нежели у Канта.
Общетеоретические взгляды Фихте на государство и право развиваются в русле естественно-правовой доктрины. Своеобразием отличается методологическая, философская основа этих взглядов. Фихте -- убежденный субъективный идеалист, для которого материальный мир во всех его бесчисленных аспектах существует лишь как сфера проявления свободы человеческого духа; вне человеческого сознания и человеческой деятельности нет объективной действительности.
И по Фихте, право выводится из “чистых форм разума”. Внешние факторы не имеют отношения к природе права. Необходимость в нем диктует самосознание, ибо только наличие права создает условия для того, чтобы самосознание себя выявило. Однако право базируется не на индивидуальной воле. Конституируется оно на основе взаимного признания индивидами личной свободы каждого из них. “Понятие права,-- разъясняет Фихте, -- есть понятие отношения между разумными существами. Оно существует лишь при том условии, когда такие существа мыслятся во взаимоотношениях друг к другу...”
Чтобы гарантировать свободу отдельного человека и совместить с ней свободу всех, нужна правовая общность людей. Стержнем такой правовой общности должен стать юридический закон, вытекающий из взаимоотношений разумно-свободных существ, а не из нравственного закона. Право функционирует независимо от морали, регулируя исключительно область действий и поступков человека.
Фихте считал, что правовые отношения, а следовательно свобода индивидов, не застрахованы от нарушений. Господство закона не наступает автоматически. Правовые отношения, свободу надлежит защищать принуждением. Других средств нет. Потребность обеспечить личные права людей обусловливает необходимость государства. Принудительной силой в государстве не может являться индивидуальная воля. Ею может быть лишь единая коллективная воля, для образования которой надо согласие всех, необходим соответствующий договор. И люди заключают такой гражданско-государственный договор. Благодаря ему и устанавливается государственность. Общая воля народа составляет стержень законодательства и определяет границы влияния государства. Так, демократ Фихте стремился пресечь произвол абсолютистско-полицейской власти над своими подданными и, опираясь на естественно-правовую доктрину, утвердить политические права и свободы личности.
Не скрывая симпатий к республике, Фихте отмечал, что отличительной чертой всякого разумного, согласованного с требованиями права государства (независимо от его формы) должна быть ответственность лиц, осуществляющих управление, перед обществом. Если такой ответственности нет, государственный строй вырождается в деспотию. Чтобы народный суверенитет не остался пустой фразой и правительство строго подчинялось закону, Фихте предлагает учредить эфорат-- постоянную контрольную, надзирающую власть, представители которой-эфоры-- избираются самим народом. Эфоры могут приостанавливать действия исполнительной власти, коль скоро усмотрят в них угрозу правопорядку. Окончательную оценку действиям правительства дает народ. Позднее, в 1812 г., Фихте признал идею создания эфората нереалистичной.
Фихте убежденно отстаивал идею верховенства народа: “.„народ и в действительности, и по праву есть высшая власть, над которой нет никакой иной и которая является источником всякой другой власти, будучи сама ответственна лишь перед Богом”. Отсюда категорический вывод о безусловном праве народа на любое изменение неугодного ему государственного строя, о праве народа в целом на революцию.
Фихте видел в государстве не самоцель, а лишь орудие достижения идеального строя, в котором люди, вооруженные наукой и максимально использующие машинную технику, решают практические, земные задачи без большой затраты времени и сил и имеют еще достаточно досуга для размышления о своем духе и о сверхземном. По поводу назначения человека и судеб государства Фихте писал: “Жизнь в государстве не относится к абсолютной цели человека... при определенных обстоятельствах она есть лишь наличное средство для основания совершенного общества. Государство, как и все человеческие установления, являющиеся голым средством, стремится к своему собственному уничтожению: цель всякого правительства-- сделать правительство излишним”. Фихте, правда, полагал, что такое состояние наступит через мириады лет.
Для Фихте характерно, что национальное возрождение своей страны он тесно связывает с ее социальным обновлением: с созданием единого централизованного германского государства, которое должно наконец стать “национальным государством”, с проведением серьезных внутренних преобразований на буржуазно-демократической основе. Главную роль в достижении этой цели Фихте отводит просвещению и воспитанию народа в духе любви к отчизне и свободе. Вот почему он чрезвычайно высоко оценивает труд интеллигенции, ученых как истинных наставников нации, способных двинуть ее по пути прогресса.
Вопрос 67. Идеи английского либерализма в творчестве И. Бентама, Дж. Милля
В развитие такого рода представлений заметный вклад внес Иеремия Бентам (1748—1832). Он явился родоначальником теории утилитаризма, вобравшей в себя ряд социально-философских идей Гоббса, Локка, Юма, французских материалистов XVIII в. (Гельвеция, Гольбаха). Отметим четыре постулата, лежащих в ее основе. Первый: получение удовольствия и исключение страдания составляют смысл человеческой деятельности. Второй: полезность, возможность быть средством решения какой-либо задачи — самый значимый критерий оценки всех явлений. Третий: нравственность создается всем тем, что ориентирует на обретение наибольшего счастья (добра) для наибольшего количества людей. Четвертый: максимизация всеобщей пользы путем установления гармонии индивидуальных и общественных интересов есть цель развития человечества.
Эти постулаты служили Бентаму опорами при анализе им политики, государства, права, законодательства и т. д. Его политико-юридические взгляды изложены в «Принципах законодательства», во «Фрагменте о правительстве», в «Руководящих началах конституционного кодекса для всех государств», «Деонтологии, или Науке о морали» и др.
Давно и прочно Бентам числится в ряду столпов европейского либерализма XIX в. И не без основания. Но у бентамовского либерализма не совсем обычное лица Принято считать ядром либерализма положение о свободе индивида, исконно присущей ему, об автономном пространстве деятельности, самоутверждения индивида, обеспечиваемом частной собственностью и политико-юридическими установлениями. Бентам предпочитает вести речь не о свободе отдельного человека; в фокусе его внимания интересы и безопасность личности. Человек сам должен заботиться о себе, о своем благополучии и не полагаться на чью-либо внешнюю помощь. Только он сам должен определять, в чем заключается его интерес, в чем состоит его польза. Не притесняйте индивидов, советует Бентам, «не позволяйте другим притеснять их и вы достаточно сделаете для общества».
Что касается категории «свобода», то она претила ему. Бентам видит в ней продукт умозрения, некий фантом. Для него нет принципиальной разницы между свободой и своеволием. Отсюда понятен враждебный бентамовский выпад против свободы:
«Мало слов, которые были бы так пагубны, как слова свобода и его производные».
Свобода и права личности были для Бентама истинными воплощениями зла, потому он не признавал и отвергал их, как отвергал вообще школу естественного права и политико-правовые акты, созданные под ее воздействием. Права человека, по Бентаму, суть чепуха, а неотъемлемые права человека — просто чепуха на ходулях. Французская Декларация прав человека и гражданина, согласно Бентаму, «метафизическое произведение», части (статьи) которого возможно разделить на три класса:
а) невразумительные, б) ложные, в) одновременно и невразумительные и ложные. Он утверждает, будто «эти естественные, неотчуждаемые и священные права никогда не существовали... они несовместны с сохранением какой бы то ни было конституции... граждане, требуя их, просили бы только анархии...».
Резко критический настрой Бентама в отношении школы естественного права выразился и в отрицании им идеи различения права и закона. Причина такого отрицания данной идеи скорее не столько теоретическая, сколько прагматически-политическая. Тех, кто различает право и закон, он упрекает в том, что таким образом они придают праву антизаконный смысл. «В этом противозаконном смысле слово право является величайшим врагом разума и самым страшным разрушителем правительства- Вместо того, чтобы обсуждать законы по их последствиям, вместо того, чтобы определить, хороши они или дурны, эти фанатики рассматривают их в отношении к этому мнимому естественному праву, т. е. они заменяют суждения опыта всеми химерами своего воображения». Бентама справедливо называют одним из пионеров позитивизма в юридической науке Нового времени.
Не разделял он также мнение о том, что общество и государство возникли в истории посредством заключения между людьми соответствующего договора. Это мнение он расценивал как недоказуемый тезис, как фикцию. В вопросах организации государственной власти Бентам (особенно во второй половине своей жизни) стоял на демократических позициях. Таковые удачно подкрепляли и дополняли его либерализм. Он осуждал монархию и наследственную аристократию, являлся сторонником республиканского устройства государства, в котором три основные ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная) должны были быть разделены. Однако Бентам не соглашался с тем, чтобы эти ветви власти вообще существовали каждая сама по себе и действовали независимо друг от друга. Он — за их кооперацию, взаимодействие, ибо «эта взаимная зависимость трех властей производит их согласие, подчиняет их постоянным правилам и дает им систематический и непрерывный ход... Если бы власти были безусловно независимы, между ними были бы постоянные столкновения». Будучи твердым приверженцем демократически-республиканского строя, Бентам выступал за введение в Англии однопалатной парламентской системы и упразднение палаты лордов.
С точки зрения Бентама, демократизировать следует не только организацию непосредственно государственной власти. Демократизации подлежит в целом вся политическая система общества. В этой связи он ратует, в частности, за всемерное расширение избирательного права, включая предоставление избирательного права также и женщинам. Он надеялся, что с помощью институтов демократии (в том числе таких, как свободная пресса, общественные дискуссии, публичные собрания и т. п.) можно будет эффективно контролировать деятельность законодательной и исполнительной властей.
Назначение правительства, по Бентаму, гарантировать в первую очередь безопасность и собственность подданных государства, т. е. выполнять по преимуществу охранительные функции. Он полагает, что у правительства нет права определять, что является счастьем для каждого отдельного человека, и тем более нет права навязывать ему (индивиду) такое представление и во что бы то ни стало осчастливливать его. Очень занимал Бентама вопрос об объеме правительственной деятельности, ее направлениях и границах. По этому вопросу он высказывался неоднозначно. Однако в принципе он склонялся к тому, что во всяком случае прямое вмешательство государства в сферу экономики крайне нежелательно, поскольку может привести к весьма негативным результатам. Надо помнить, что Бентам был учеником и последователем А. Смита.
Заслуга Бентама — в его стремлении освободить законодательство от устаревших, архаических элементов, привести его в соответствие с происшедшими в обществе социально-экономическими и политическими переменами; он хотел упростить и усовершенствовать законодательный процесс, предлагал сделать судебную процедуру более демократичной, а защиту в суде доступной также беднякам. Главная общая цель всей общественной системы, по Бентаму, наибольшее счастье наибольшего числа людей.
История политико-юридической мысли XIX—XX вв. свидетельствует о том, что ряд идей Бентама оказал ощутимое влияние на развитие правовой науки. Так, бентамовское соотнесение законодательства с социальными целями и балансом интересов послужило становлению социологической школы права. С другой стороны, бентамовский подход к вопросу о соотношении естественного права и закона по-своему предвосхищал юридико-позитивистскую школу права.
Англия — родина европейского либерализма — дала в XIX в. миру многих достойных его представителей. Но и среди них своей незаурядностью и силой воздействия на идеологическую жизнь эпохи, на последующие судьбы либерально-демократической мысли выделяется Джон Стюарт Милль (1806—1873), пользовавшийся, кстати, большой популярностью в кругах российской интеллигенции. Взгляды этого классика либерализма на государство, власть, право, закон изложены им в таких трудах, как «О свободе», «Представительное правление», «Основы политической экономии» (особенно пятая книга «Основ» — «О влиянии правительства»).
Начав свою научно-литературную деятельность в качестве приверженца бентамовского утилитаризма, Милль затем отходит от него. Он, например, пришел к выводу, что нельзя всю нравственность базировать целиком лишь на постулате личной экономической выгоды индивида и на вере в то, что удовлетворение корыстного интереса каждого отдельного человека чуть ли не автоматически приведет к благополучию всех. По его мнению, принцип достижения личного счастья (удовольствия) может «срабатывать», если только он неразрывно, органически связан с другой руководящей идеей: идеей необходимости согласования интересов, притом согласования не только интересов отдельных индивидов, но также интересов социальных.
Для Милля характерна ориентация на конструирование «нравственных», а стало быть (в его понимании) правильных, моделей политико-юридического устройства общества. Сам он говорит об этом так: «Я смотрел теперь на выбор политических учреждений скорее с моральной и воспитательной точек зрения, чем с точки зрения материальных интересов». Высшее проявление нравственности, добродетели, по Миллю, — идеальное благородство, находящее выражение в подвижничестве ради счастья других, в самоотверженном служении обществу.
Все это может быть уделом только свободного человека. Свобода индивида — та «командная высота», с которой Милль рассматривает ключевые для себя политические и правовые проблемы. Их перечень традиционен для либерализма: предпосылки и содержание свободы человеческой личности, свобода, порядок и прогресс, оптимальный политический строй, границы государственного интервенционизма и т. п.
Индивидуальная свобода, в трактовке Милля, означает абсолютную независимость человека в сфере тех действий, которые прямо касаются только его самого; она означает возможность человека быть в границах этой сферы господином над самим собой и действовать в ней по своему собственному разумению. В качестве граней индивидуальной свободы Милль выделяет, в частности, следующие моменты: свобода мысли и мнения (выражаемого вовне), свобода действовать сообща с другими индивидами, свобода выбора и преследования жизненных целей и самостоятельное устроение личной судьбы. Все эти и родственные им свободы — абсолютно необходимые условия для развития, самоосуществления индивида и вместе с тем заслон от всяких посягательств извне на автономию личности.
Угроза такой автономии исходит, по Миллю, не от одних только институтов государства, не «только от правительственной тирании», но и от «тирании господствующего в обществе мнения», взглядов большинства. Духовно-нравственный деспотизм, нередко практикуемый большинством общества, может оставлять по своей жестокости далеко позади «даже то, что мы находим в политических идеалах самых строгих дисциплинато-ров из числа древних философов».
Обличение Миллем деспотизма общественного мнения весьма симптоматично. Оно— своеобразный индикатор того, что начавшая утверждаться в середине XIX в. в Западной Европе «массовая демократия» чревата нивелированием личности, «усреднением» человека, подавлением индивидуальности. Милль верно уловил эту опасность.
Из сказанного выше вовсе не вытекает, будто ни государство, ни общественное мнение в принципе неправомочны осуществлять легальное преследование, моральное принуждение. И то и другое оправданно, если с их помощью предупреждаются (пресекаются) действия индивида, наносящие вред окружающим его людям, обществу. Показательно в данной связи то, что Милль ни в коем случае не отождествляет индивидуальную свободу с самочинностью, вседозволенностью и прочими асоциальными вещами. Когда он говорит о свободе индивидов, то имеет в виду людей, уже приобщенных к цивилизации, окультуренных, достигших некоторого заметного уровня гражданско-нравственного развития.
Свобода индивида, частного лица первична по отношению к политическим структурам и их функционированию. Это решающее, по Миллю, обстоятельство ставит государство в зависимость от воли и умения людей создавать и налаживать нормальное (согласно достигнутым стандартам европейской цивилизации) человеческое общежитие. Признание такой зависимости побуждает Милля пересмотреть раннелиберальную точку зрения на государство. Он отказывается видеть в нем учреждение, плохое по самой своей природе, от которого лишь претерпевает, страдает априори хорошее, неизменно добродетельное общество. «В конце концов,— заключает Милль,— государство всегда бывает не лучше и не хуже, чем индивиды, его составляющие». Государственность такова, каково общество в целом, и посему оно в первую очередь ответственно за его состояние. Главное условие существования достойного государства — самосовершенствование народа, высокие качества людей, членов того общества, для которого предназначается государство.
Милль полагает, что государство, гарантирующее все виды индивидуальных свобод и притом одинаково для всех своих членов, способно установить у себя и надлежащий порядок. В узком смысле слова он (порядок) означает повиновение. Милль подчеркивает- «Власть, которая не умеет заставить повиноваться своим приказаниям, не управляет». Повиновение, послушание вообще является, на взгляд Милля, первым признаком всякой цивилизации. Ведя речь о повиновении властям, он говорит, в частности, о том, что люди обязаны не нарушать законные права и интересы других индивидов. Соблюдая общеобязательные правила, они должны также нести ту долю забот, «которая приходится на каждого, в целях защиты общества или его членов от вреда и обид». Свободная личность, по Миллю, есть вместе с тем личность законопослушная.
В более же широком смысле «порядок означает, что общественное спокойствие не нарушается никаким насилием частных лиц»; сюда же относится такая характеристика порядка: он «есть охранение существующих уже благ всякого рода». Ему не случайно уделяется столь большое внимание. Вызвано оно тем, что порядок в государстве выступает непременным условием прогресса, т е постепенного совершенствования, улучшения человечества в умственном, нравственном и социальном отношениях.
Милль — приверженец и идеолог исторического прогресса Однако он считает, что дело улучшения человечества не всегда бывает праведным. Оно может вступить в противоречие с духом свободы, если совершается насильственно, «вопреки желанию тех, кого это улучшение касается, и тогда дух свободы, сопротивляясь такому стремлению, может даже оказаться заодно с противниками улучшения». Индивидуальная свобода есть мощный, постоянный и самый надежный генератор всяких улучшений в обществе. Благодаря чему она имеет такое громадное значение для социального прогресса9 Где истоки ее созидательной силы? Милль на подобного рода вопросы отвечает следующим образом: «Там, где существует свобода, там может быть столько же независимых центров улучшения, сколько индивидов». Исторический прогресс имеет место благодаря энергии, конструктивным усилиям свободного индивида, соединенным с энергией, конструктивными усилиями всех его сограждан, таких же свободных индивидов.
Если порядок, основанный на свободе,— непременное условие прогресса, то залогом прочности и стабильности самого порядка является, по Миллю, хорошо устроенная и правильно функционирующая государственность. Ее наилучшей формой, идеальным типом он считает представительное правление, при котором «весь народ или по меньшей мере значительная его часть пользуется через посредство периодически избираемых депутатов высшей контролирующей властью... этой высшей властью народ должен обладать во всей ее полноте». В силу обладания такой властью, базирующейся на праве всех людей участвовать в общем управлении, народ «должен руководить, когда ему это захочется, всеми мероприятиями правительства».
В рассуждениях о представительном правлении Милль проводит одну из главных своих политических идей — идею непосредственной причастности народа к устройству и деятельности государства, ответственности народа за состояние государственности. Представительное правление учреждается по выбору народа, предрасположенного принять данную государственную форму. Это во-первых. Во-вторых, «народ должен иметь желание и способность выполнить все необходимое для ее поддержки». Наконец, в-третьих, «этот народ должен иметь желание и способность выполнять обязанности и функции, возлагаемые на него этой формой правления».
Целей у хорошо устроенной и правильно функционирующей государственности несколько: защита интересов личности и собственности, содействие росту благосостояния людей, увеличение положительных социальных качеств в индивиде. «Лучшим правительством для всякого народа будет то, которое сможет помочь народу идти вперед».
Есть еще один существенный отличительный признак хорошо организованного и правильно функционирующего государства — качество государственного механизма, совокупности соответствующих политических установлении. Достоинство такого механизма Милль связывает, в частности, с его устройством на основе принципа разделения властей. Автор «Представительного правления» — сторонник четкого разграничения их компетенции, особенно компетенции законодательной и исполнительной властей. Законодательная власть в лице парламента призвана заниматься, естественно, законотворчеством. Но не им одним. Ей надлежит осуществлять наблюдение и контроль над правительством, отстранять «от должности людей, составляющих правительство, если они злоупотребляют своими полномочиями или выполняют их противоположно ясно выраженному мнению нации- Кроме того, парламент обладает еще другой функцией- служить для нации местом выражения жалоб и различнейших мнений». Милль отмечает и негативные тенденции, свойственные деятельности парламентов, вообще представительных собраний: в них «всегда сильно стремление все более и более вмешиваться в частности управления».
Однако задачи управления не их задачи. Они должны решаться администрацией. Так, «центральная административная власть должна- наблюдать за исполнением законов и, если законы не исполняются надлежащим образом- должна обращаться к суду для восстановления силы закона, или к избирателям для устранения от должности лица, не исполняющего законы как следует».
Миллевский либерализм стоит, таким образом, не только на страже индивидуальной свободы, прав личности, но и выступает за организацию самого государственного механизма на демократических и правовых началах. Отсюда понятно, что концепция правового государства является одним из необходимых органических воплощений либеральной политико-юридической мысли.
Для нее также характерна и традиционная постановка вопроса о направлениях и границах деятельности аппарата государственной власти, об объеме выполняемых им функций. Сама постановка подобного вопроса была исторически обусловлена. Ее мотивировало стремление социальных сил, заинтересованных в утверждении буржуазного миропорядка, в сокрушении всевластия абсолютистско-монархических режимов, которые жестко регламентировали общественную жизнь, сковывали свободу индивида, частную инициативу, личный почин.
Проблема определения тех сфер человеческой деятельности, которые должны быть объектами государственного воздействия и на которые должна непосредственно распространяться власть государства, для Милля в числе приоритетных и актуальных. Анализ ее приводит Милля к ряду важных выводов. Он убеждается в том, что «правительственные функции- меняются, следуя различным состояниям общества: они обширнее у отсталого народа, чем у передового». Другой его вывод не менее значим как в теоретическом, так и в методологическом отношениях: «общепризнанные функции государственной власти простираются далеко за пределы любых ограничительных барьеров, и функциям этим вряд ли можно найти некое единое обоснование и оправдание, помимо соображений практической целесообразности. Нельзя также отыскать какое-то единое правило для ограничения сферы вмешательства правительства, за исключением простого, но распльгвчатого положения о том, что вмешательство это следует допускать при наличии особо веских соображений практической целесообразности».
Ясно понимая объективную необходимость общепризнанных функций государства, понимая реальную потребность страны иметь государство, способное действенно осуществлять такого рода функции, Милль вместе с тем порицает расширение правительственной деятельности как самоцель, осуждает стремление государственных чиновников «присвоить неограниченную власть и незаконно нарушать свободу частной жизни». Это, по мнению Милля, «усиливает правительственное влияние на индивидов, увеличивает число людей, возлагающих на правительство свои надежды и опасения, превращает деятельных и честолюбивых членов общества в простых слуг правительства».
Когда государство подменяет своей собственной чрезмерной Деятельностью свободную индивидуальную (и коллективную) Деятельность людей, активные усилия самого народа, тогда закономерно начинают удовлетворяться прежде всего интересы государственной бюрократии, а не управляемых, не народа. Однако еще большее зло заключается в том, что в результате '1'акой подмены народ поражается болезнью социальной пассивности, его охватывают настроения иждивенчества. В нем убивается дух свободы, парализуется сознание личного достоинства, чувство ответственности за происходящее вокруг. При подобном обороте дела общество в гражданско-нравственном плане неизбежно деградирует. За этим наступает и деградация государственности. Либерал Милль был решительно против такой перспективы.
Вопрос 68. Учение о государстве и праве Б. Констана и А. Токвиля
Большую часть работ по вопросам политики, власти, государства Бенжамен Констан (1767—1830), которого исследователи считают даже духовным отцом либерализма на европейском континенте, написал в период между 1810—1820 гг. Затем он их собрал и свел в «Курс конституционной политики», излагавший в удобной систематической форме либеральное учение о государстве. Правда, увидел свет этот «Курс» уже после смерти самого автора.
Стержень политико-теоретических конструкций Констана — проблема индивидуальной свободы. Для европейца Нового времени (чью сторону держит Констан) эта свобода есть нечто иное, нежели свобода, которой обладали люди в античном мире. У древних греков и римлян она заключалась в возможности коллективного осуществления гражданами верховной власти, в возможности каждого гражданина непосредственно участвовать в делах государства. Вместе с тем свобода, которая бытовала в эпоху античности, совмещалась с почти полным подчинением индивида публичной власти и оставляла весьма небольшое пространство для проявлений индивидуальной независимости. Свобода же современного европейца (и только она приемлема для Констана) — личная независимость, самостоятельность, безопасность, право влиять на управление государством. Прямое постоянное участие каждого индивида в отправлении функций государства не входит в ряд строго обязательных элементов данного типа свободы.
Материальная и духовная автономия человека, его надежная защищенность законом (в особенности — правовая защищенность частной собственности) стоят у Констана на первом месте и тогда, когда он рассматривает проблему индвидуальной свободы в практически-политическом плане. С его точки зрения, этим ценностям должны быть подчинены цели и устройство государства. Естественным ему кажется такой порядок организации политической жизни, при котором институты государства образуют пирамиду, вырастающую на фундаменте индивидуальной свободы, неотчуждаемых прав личности, а сама государственность в качестве политического целого венчает собой систему сложившихся в стране различных коллективов (союзов) людей.
Констан уверен: люди, будучи свободными, в состоянии самостоятельно и разумно реализовать себя в жизни. Они способны за счет своих индивидуальных усилий и без воздействия какой-либо надличностной силы обеспечить себе достойное существование. Руководствуясь этими представлениями, Констан серьезно корректирует руссоистский тезис о необходимости всемогущества народного суверенитета. Его границы должны кончаться там, где начинается «независимость частного лица и собственная жизнь» (индивида. — Л. М.). Наличие подобных рамок превращает сдерживание власти и контроль над ней в краеугольные принципы политико-институционального устройства общества.
Однако Констан отнюдь не принадлежит к тем либералам, которые хотят, чтобы государство вообще было слабым, чтобы его оказывалось как можно меньше. Он настаивает на ином: на жестком определении конкретной меры социальной полезности институтов власти, на точном установлении пределов их компетенции. Эти же самые процедуры, по сути дела, очерчивают как нужный обществу объем государственной власти, так и необходимое количество (и качество) требуемых государству прав. Недопустимо ослаблять силу того государства, которое действует сообразно указанным прерогативам: «Не нужно, чтобы правительство выходило из своей сферы, но власть его в своей области должна быть неограниченной» Политическим идеалом Констана никогда не было государство пассивное и маломощное.
Современное государство должно быть по форме, как полагал Констан, конституционной монархией Предпочтение конституционно-монархическому устройству отдается не случайно. В лице конституционного монарха политическое сообщество обретает, согласно Констану, «нейтральную власть». Она — вне трех «классических» властей (законодательной, исполнительной, судебной), независима от них и потому способна (и обязана) обеспечивать их единство, кооперацию, нормальную деятельность. «Король вполне заинтересован в том, чтобы ни одна власть не ниспровергала другой, а напротив, чтобы они взаимно поддерживали друг друга и действовали в согласии и гармонии». Идея королевской власти как власти нейтральной, регулятивной и арбитражной — попытка вписать соответствующим образом модернизированный институт монархии в устройство правовой государственности.
Наряду с институтами государственной власти, контролируемыми обществом, и общественным мнением, опирающимся на свободу печати, гарантом индивидуальной свободы должно также выступать право. Это — неколебимая позиция Констана. Право противостоит произволу во всех его ипостасях. Правовые формы суть «ангелы-хранители человеческого общества», «единственно возможная основа отношений между людьми». Фундаментальное значение права как способа бытия социальности превращает соблюдение права в центральную задачу деятельности политических институтов.
Обеспечить индивидуальную свободу всеми правомерными средствами для ее полнокровного осуществления и прочной защиты стремился и знаменитый соотечественник Констана, его младший современник Алексис де Токвиль (1805—1859). Политическая концепция Токвиля сложилась в изрядной степени под влиянием идей Констана, взглядов еще одного видного французского либерала — Пьера Руайе-Коллара. Немалую роль в ее формировании сыграл выдающийся историк Франсуа Гизо, лекции которого Токвиль слушал в молодые годы. Две яркие работы Токвиля «О демократии в Америке» и «Старый режим и революция» создали ему авторитетное имя в науке о политике и государстве.
Предмет его наибольшего интереса составили теоретические и практические аспекты демократии, в которой он усматривал самое знаменательное явление эпохи. Демократия трактуется им широко. Она для него олицетворяет такой общественный строй, который противоположен феодальному и не знает границ (сословных или предписываемых обычаями) между высшими и низшими классами общества. Но это также политическая форма, воплощающая данный общественный строй. Сердцевина демократии — принцип равенства, неумолимо торжествующий в истории. «Постепенное установление равенства есть предначертанная свыше неизбежность. Этот процесс отмечен следующими основными признаками он носит всемирный, долговременный характер и с каждым днем все менее и менее зависит от воли людей.. Благоразумно ли считать, что столь далеко зашедший социальный процесс может быть приостановлен усилиями одного поколения? Неужели кто-то полагает, что, уничтожив феодальную систему и победив королей, демократия отступит перед буржуазией и богачами? Остановится ли она теперь, когда она стала столь могучей, а ее противники столь слабы?»
Если перспективы демократии и равенства (понимаемого как равенство общественного положения разных индивидов, одинаковость их стартовых возможностей в сферах экономической, социальной, политической жизнедеятельности) у Токвиля никаких особых забот не вызывали, то судьбы индивидуальной свободы в условиях демократии очень волновали его. Он считал, что торжество равенства как такового не есть стопроцентная гарантия воцарения свободы. Другими словами, всеобщее равенство, взятое само по себе, автоматически не приводит к установлению такого политического строя, который твердо оберегает автономию индивида, исключает произвол и небрежение правом со стороны властей.
Свобода и равенство, по Токвилю, явления разнопорядко-вые. Отношения между ними неоднозначные. И отношение людей к ним тоже различное. Во все времена, утверждает Токвиль, люди предпочитают равенство свободе. Оно дается людям легче, воспринимается подавляющим большинством с приязнью, переживается с удовольствием. «Равенство ежедневно наделяет человека массой мелких радостей. Привлекательность равенства ощущается постоянно и действует на всякого;
его чарам поддаются самые благородные сердца, и души самые низменные с восторгом предаются его наслаждениям. Таким образом, страсть, возбуждаемая равенством, одновременно является и сильной, и всеобщей». Радости, доставляемые равенством, не требуют ни жертв, ни специальных усилий. Чтобы удовольствоваться ими, надо просто жить.
Иное дело — свобода (в частности, свобода политическая). Существование в условиях свободы требует от человека напряжения, больших усилий, связанных с необходимостью быть самостоятельным, делать всякий раз собственный выбор, отвечать за свои действия и их последствия. Пользование свободой если угодно, определенный крест; ее преимущества, достоинств ва не дают себя знать, как правило, мгновенно. Высокое удовлетворение, которое приносит она, испытывает не столь широкий круг людей, какой охватывает сторонников равенства. Поэтому демократические народы с большим пылом и постоянством любят равенство, нежели свободу. Помимо всего прочего это оттого, что «нет ничего труднее, чем учиться жить свободным».
Для Токвиля очевидна величайшая социальная ценность свободы. В конечном итоге лишь благодаря ей индивид получает возможность реализовать себя в жизни, она позволяет обществу устойчиво процветать и прогрессировать. «С течением времени свобода умеющим сохранить ее всегда дает довольство, благосостояние, а часто и богатство». Однако Токвиль предупреждает читателя: нельзя предаваться вульгарно-утилитаристским иллюзиям и ожидать от свободы каких-то чудес, уподоблять ее некоему рогу изобилия, способному в одночасье обеспечить всех и каждого массой материальных и прочих благ. «Кто ищет в свободе чего-либо другого, а не ее самой, тот создан для рабства».
То, что демократические народы испытывают в принципе естественное стремление к свободе, ищут ее, болезненно переживают утрату последней, было ясно Токвилю. Как было не менее ясно ему и то, что страсть к равенству в них еще сильнее, острее: «они жаждут равенств в свободе, и, если она им не доступна, они хотят равенства хотя бы в рабстве. Они вынесут бедность, порабощение, разгул варварства, но не потерпят аристократии». Аристократия тут — синоним неравенства. С такой неистребимой тягой «демократических народов» к равенству любой политик обязан беспрекословно считаться как с объективным фактом независимо от того, нравится она ему или нет.
Сам Токвиль убежден в следующем: современная демократия возможна лишь при тесном союзе равенства и свободы. Любовь к равенству, доведенная до крайности, подавляет свободу, вызывает к жизни деспотию. Деспотическое правление, в свою очередь, обессмысливает равенство. Но и вне равенства как фундаментального принципа демократического общежития свобода недолговечна и шансов сохраниться у нее нет. Проблема, по Токвилю, состоит в том, чтобы, с одной стороны, избавляться от всего, мешающего установлению разумного баланса равенства и свободы, приемлемого для современной демократии. С другой — развивать политико-юридические институты, которые обеспечивают создание и поддержание такого баланса.
В размышлениях над этой нелегкой проблемой Токвиль опирается прежде всего на исторический опыт своей страны (Франции) и Соединенных Штатов Америки. Выясняется, что одна из самых серьезных помех свободе и, соответственно, демократии в целом — чрезмерная централизация государственной власти. На родине Токвиля такая централизация произошла. Она произошла еще задолго до революционных потрясений, и ее результатом стало то, что французы оказались под жесткой всеохватывающей опекой государственной администрации. Токвиль резко критикует идеологов, которые оправдывали такую удушающую свободу индивидов опеку. Эти идеологи полагали, будто государственный аппарат вправе поступать так, как ему заблагорассудится. Нормальным они считали такое положение, при котором государство «не только подчиняет людей преобразованиям, но совершенно переделывает их».
Если сверхцентрализация власти, отвергаемая Токвилем, сводит на нет свободу, то целый ряд политико-юридических установлении демократического профиля, напротив, «работает» в пользу свободы индивида и общества, укрепляет ее. К числу подобного рода установлении Токвиль относит: разделение властей, местное (общинное) самоуправление, в котором он усматривает истоки народного суверенитета. Кстати, Токвиль отнюдь не думает, что этот суверенитет беспределен, верховенство народа тоже имеет свои границы. Там, где их преступают, возникает тирания, тирания большинства, ничуть не лучшая тирании властителя-самодержца.
В ряд упомянутых выше демократических институтов Токвиль помещает также свободу печати, религиозную свободу, суд присяжных, независимость судей и т. п. Интересная деталь:
Токвиля весьма мало занимает вопрос, каким надлежит быть конкретно политическому устройству демократического общества — монархическим или республиканским. Важно, по его мнению, лишь то, чтобы в этом обществе утвердилась представительная форма правления.
Токвиль тонко исследует и тщательно описывает особенности политической культуры граждан формировавшегося западного Демократического общества. Его беспокойство вызывали такие проявления этой культуры, которые приглушали дух свободы, ослабляли демократически-правовой режим. Он, в частности, порицает индивидуализм, усиливавшийся по мере выравнивания условий существования людей. Самоизоляция индивидов, их замыкание в узких рамках личной жизни, отключение от участия в общественных делах — чрезвычайно опасная тенденция. Это— зловещее социальное заболевание эпохи демократии. Индивидуализм объективно на руку тем, кто предпочитает деспотические порядки и тяготится свободой. Противоядие пагубной разобщенности граждан Токвиль видит в предоставлении им как можно больших реальных возможностей «жить своей собственной политической жизнью с тем, чтобы граждане получили неограниченное количество стимулов действовать сообща». Гражданственность способна преодолеть индивидуализм, сохранить и упрочить свободу.
Ни равенство, ни свобода, взятые порознь, не являются самодостаточными условиями подлинно человеческого бытия. Только будучи вместе, в единстве, они обретают такое качество. Токвиль — выдающийся теоретик демократии и одновременно последовательный либерал — глубоко постиг ту истину, что либерализм должен пойти навстречу демократии. Этим в эпоху выхода масс на общественно-политическую сцену, в эпоху культа равенства спасется высшая либеральная ценность — свобода.
Вопрос 69. Политические идеи Г. Спенсера, Дж. Остина.
Политические идеи Г. Спенсера.
Герберт Спенсер (1820--1903) принадлежит к числу талантливых самоучек, которые не получили в свое время систематического образования и тем не менее сумели приобрести обширные познания в самых различных областях. Спенсер основательно интересовался биологией, психологией, этнографией, историей. За несколько лет до выхода “Происхождения видов” Чарлза Дарвина он самостоятельно сформулировал “закон выживания наиболее приспособленных” в борьбе за существование. В историю обществознания он вошел как один из основателей социологии, которому довелось осуществить дальнейшее совершенствование социологической методологии на новом материале и в новой традиции эмпиризма, столь сильной именно в Англии во второй половине XIX в.
Английский исследователь первым из социологов наиболее полно использовал аналогии и термины из области науки о живых существах (биологии), уподобляя и сопоставляя общество с биологическим организмом, тщательно анализируя черты сходств и различий в принципах их построения (структуры) и развития (эволюции). Результатом такого уподобления и сопоставительного анализа стало обнаружение некоторых закономерностей и стадиальности органической жизни -- например, переход от простого к сложному (интеграция), от однородного к разнородному (дифференциация)-- с последующим перенесением обнаруженных закономерностей в истолкование стадий эволюции и функционирования различных обществ и государств.
Наблюдаемые в жизни общества процессы роста и усложнения их структуры и функций или связанности его отдельных частей (элементов), их дифференциации Спенсер представил как процесс постепенного объединения различных мелких групп в более крупные и сложные, которым он дал название “агрегаты”. Этим названием охватывались такие общественные группы и объединения, как племя, союз племен, города-государства, империи. Было принято во внимание также, что, раз возникнув, эти объединения (агрегаты) испытывают воздействие иных факторов перемен -- социально-классовой дифференциации, специализации в виде разделения труда, образования органов политической власти (регулятивная система), а также возникновения земледелия, ремесел (система органов “питания”), возникновения специализированной “распределительной системы” ( торговли, транспорта и иных средств сообщения).
Исходным положением для оценки общественных структур и остальных частей политических агрегатов у Спенсера стало положение о том, что общество существует для блага всех членов, а не члены его существуют для блага общества. Другими словами, благосостояние общественного агрегата не может считаться само по себе целью общественных стремлений без учета благосостояния составляющих его единиц. В этом смысле все усилия и притязания политического агрегата (политического, института, в частности) сами по себе мало что значат, если они не воплощают в себе притязания составляющих данный агрегат единиц. Эта характерная особенность позиции английского мыслителя дает основание для отнесения ее к разряду либеральных социально-политических установок.
Объясняя свой подход к рассмотрению структуры и деятельности социально-политических агрегатов. Спенсер говорил, что между политическим телом и живым телом не существует никаких других аналогий, кроме тех, которые являются необходимым следствием взаимной зависимости между частями, обнаруживаемой одинаково в том и другом. К сказанному следует добавить, что в те времена в европейском политическом словаре не было еще термина “политическое учреждение” и этот структурный элемент политической жизни именовался политическим телом (отсюда же ведет свое происхождение и слово “корпорация”, употреблявшееся вначале для обозначения некоторых сословий, например горожан, купцов и др.). О достоинствах метода аналогий и его оправданности сам исследователь заметил, что “аппараты и функции человеческого тела доставляют нам наиболее знакомые иллюстрации аппаратов вообще”.
У Спенсера можно найти и довольно существенные оговорки относительно пределов аналитических возможностей метода аналогий, поскольку опасность завышенной биологизации социальных и политических структур был очевидной. “Общественный организм, будучи раздельным (дискретным), а не конкретным, будучи ассиметричным, а не симметричным, чувствительным во всех своих единицах, а не в одном чувствительном центре, не может быть сравниваемым ни с одним, особо взятым типом индивидуального организма, растительного или животного... Единственная общность между двумя сравниваемыми нами родами организмов есть общность основных принципов организации” (“ основания социологии)”).
Обращаясь к истории возникновения государства и политических институтов. Спенсер утверждал, что первоначальная политическая дифференциация возникает из семейной дифференциации -- когда мужчины становятся властвующим классом по отношению к женщинам. Одновременно происходит дифференциация и в классе мужчин (домашнее рабство), которая приводит к политической дифференциации по мере возрастания числа обращенных в рабство и зависимых лиц в результате военных захватов и увода в плен. С образованием класса рабов- военнопленных и начинается “политическое разделение (дифференциация) между правящими структурами и структурами подвластными, которое продолжает идти через все более высокие формы социальной эволюции”.
Военизированное общество достигает “полного кооперативного действия” (работа всей невоюющей части населения на нужды воюющей, сплочение всего агрегата с подчинением ему жизни, свободы и собственности составляющих его единиц). Это единение и сплочение невозможны без посредничества власти, без особой, иерархизированной системы централизации управления, распространяемой на все сферы общественной деятельности. Статус иерархизированной подчиненности -- самая примечательная черта военного правления: начиная от деспота и кончая рабом, все являются господами стоящих ниже и подчиненными тех, кто стоит выше в данной иерархии. При этом регламентация поведения в таком обществе и при таком правлении носит не только запрещающий характер, но также и поощряющий. Она не только сдерживает, но и поощряет, не только запрещает, но и предписывает определенное поведение.
Другим, противоположным строем организации и управления Спенсер считает промышленный (индустриальный) тип организации общества. Для него характерны добровольная, а не принудительная кооперация, свобода ремесел и торговли, неприкосновенность частной собственности и личной свободы, представительный характер политических институтов, децентрализация власти и обеспечение способов согласований и удовлетворения различных социальных интересов. Всему задает тон промышленная конкуренция (“мирная борьба за существование”), происходящая в обстановке упразднения сословных барьеров, отказа от принципа наследования при замещении государственных должностей. Для правосознания и нравов промышленного общества характерна распространенность чувства личной свободы и инициативы, уважение к праву собственности и личной свободе других, меньшая мера подчиненности авторитету властей, в том числе религиозным авторитетам, исчезновение раболепия, слепого патриотизма и шовинизма и т. д.
В современном ему опыте организации и деятельности социал-демократических партий Спенсер обращал внимание на преобладание автократических и бюрократических тенденций. Так, наличие этих тенденций в германской социал-демократии он связывал с тем, что партии оказались там неспособными мыслить и действовать вне традиционных для прусского военно- бюрократического строя стереотипов.
В социально-политической историографии Спенсер причислен к основоположникам и предтечам теории единого индустриального общества, а также к течению социал-дарвинизма в социальной философии XIX--XX вв. В области методологии его идеи унаследовали школы структурно-функционального анализа ( Т. Парсонс) и культур-антропологии.
Учение Дж. Остина о праве.
Возникновение юридичесокго позитивизма обычно относят к первой половине прошлого века и связывают его с творчеством английского правоведа Джона Остина (1790--1859), который Б 20-х гг. XIX в. возглавил первую кафедру юриспруденции в Лондонском университете. Здесь же в цикле своих лекций под названием “Определение предмета юриспруденции” он развил утилитаристский тезис своего знаменитого соотечественника И. Бентама о том, что право -- это “повеление суверена”, и снабдил его развернутым обоснованием.
В итоге право предстает в относительно определенной и легко обозреваемой совокупности правил (норм), принципов и типологических делений. Если, по представлениям И. Бентама, право следует воспринимать как совокупность знаков (символов), изданных или одобренных сувереном для регулирования должного поведения определенного класса лиц, находящихся под его властью, то, согласно Остину, такого суверена можно представить себе -- в зависимости от обстоятельств -- в виде не только лица, но и учреждения, которое действительно, а не формально является сувереном для подвластных в данном политическом сообществе. Источником права, таким образом, является суверенная власть, причем важнейшей гарантией нормального функционирования права и самой суверенной власти выступает привычка большинства к повиновению. Нет поэтому, согласно Остину, оснований относить к разряду позитивного закона, к примеру, распоряжение оккупационных армейских властей, даже если они и дают этому распоряжению наименование закона.
В конструкции Остина суверен предстает воплощением всевластного учреждения, а норма права -- нормой властного принуждения, или, говоря словами самого Остина, “правилом, установленным одним разумным существом, имеющим власть над другим разумным существом, для руководства им”. Приказ суверена, снабженный санкцией, и есть, по сути дела, правовая норма (норма позитивного закона). По этой логике позитивными законами в строгом смысле этого слова должны считаться такие законы, которые предполагают возложение обязанностей и которые влекут определенные последствия, в том числе негативные последствия в виде законного причинения вреда.
Таким образом, норма получает юридический характер только в том случае, когда некто, обладающий необходимыми властными возможностями и способностями, в состоянии придать ей обязывающую силу принуждения под угрозой причинить вред (негативные последствия) нарушителю данной нормы. Этим субъектом суверенных властных полномочий может быть не только человек, но и бог. Санкции, установленные позитивным законом, имеют характер юридический и политический одновременно, поскольку они реализуются на практике данным политическим сообществом в принудительном порядке. В этом смысле право в целом является приказом суверенной власти, устанавливающим обязанности и находящим гарантии их реализации в политических (государственных) санкциях и принуждении.
Суть юридико-позитивистского подхода в понимании и истолковании права хорошо передается формулой “закон есть закон”. В историческом плане позитивистский подход выделяется своим негативным отношением к любым конструкциям, которые допускают или терпимо относятся к допущению, что помимо реально существующего и воспринимаемого государства и связанного с ним массива законодательства существует -- и с этим надлежит считаться -- некое более разумное право и связанное с ним государство, являющие собой эталон для сопоставлений. Подобный же негативизм он распространяет и на концепции естественных и неотчуждаемых прав.
Другой важной и более оправданной особенностью использования формулы “закон есть закон” является признание ее необходимейшим условием нормального общения в нормально организованном человеческом (политическом, трудовом, имущественном) общежитии, своего рода краеугольным камнем в громадном здании государственности и неотъемлемым атрибутом повседневного правового общения.
Существенное значение в концепции Остина имеет трактовка права в строгом смысле слова. Право в строгом смысле устанавливается для разумных существ другим разумным существом или существами -- таковы законы, установленные богом (божеское право), и законы, установленные людьми. Но среди второй категории не все можно безоговорочно отнести к праву в строгом смысле (позитивному праву) -- например, правила, установленные лицами и учреждениями, не являющимися суверенами. К этому же разряду Остин относит правила, установленные общественным мнением (к их числу он относит и нормы международного права), а также правила моды, правила этикета и законы чести. Остин называл все эти разновидности нормативного регулирования термином “позитивная мораль”. Таким образом, право в широком смысле включает в себя богооткро- венное право, позитивное право и позитивную мораль. Между позитивным правом и моралью, а также религией существует не близость и не сходство, а противоречие. И это должен учитывать всякий законодатель. Противоречие с моралью не лишает право его качественных свойств, даже если оно подвергается критике с моральных позиций или испытывает ограничительное воздействие со стороны последней.
Наиболее характерным для позиции Остина в этом вопросе было то, что он резко и твердо разводил право и мораль; вопрос о морально должном, о приведении сущего в соответствии с этим долженствованием Остиным полностью не снимается, но только выносится за рамки практической юриспруденции. Таким образом, право обособляется от морали ради того, чтобы предметом юриспруденции было исключительно позитивное право -- вне всякой зависимости от того, хорошее это право или плохое, несовершенное. Оценки этого рода, по мнению Остина, удел этики или законоведения, но отнюдь не правоведения.
Одно из распространенных самооправданий юридико-пози- тивистской ориентации в изучении права -- это прагматическая забота ученых и практиков по необходимому упорядочению всего массива непрерывно изменяющегося и разрастающегося законодательства. Но очевидно, что истолкование права как приказа (волеизъявления) суверена чревато и недобросовестным применением этой формулы. Именно в результате такого использования формулы о законе-приказе может расти и множиться деятельность по обеспечению одной лишь “наружности закона” (В. О. Ключевский).
Вопрос 70. Учение о государстве и праве Р. Иеринга и Л. Гумпловича
Учение Р. Иеринга о праве и государстве
Одной из самых заметных фигур европейской юриспруденции второй половины XIX столетия был германский правовед Рудольф фон Иеринг (1818—1892). Широкую известность принесли ему такие труды, как «Дух римского права на различных ступенях его развития», «Цель в праве» и «Борьба за право».
Однозначную характеристику творчества Иеринга дать трудно, ибо оно неоднородно. Различают, в частности, два периода его творческой деятельности на поприще политико-юридической теории. Первый — примерно до середины 50-х гг. XIX в. В это время он придерживался установок «юриспруденции понятий», полагавшей главным своим делом выведение (дедукцию) конкретных правоположений из общих понятий, видевшей в понятиях основной источник знания. Сторонники данного направления в науке права считали (говоря словами Иеринга), что «понятия продуктивны, они комбинируются и производят на свет новые понятия». С таким направлением в правоведении Иеринг порывает. Второй период эволюции его взглядов начинается с середины 50-х гг. прошлого столетия. Иеринг приступает к разработке «юриспруденции интересов». Теперь он вдохновляется той мыслью, что культ логического для юриста-теоретика неуместен, поскольку правоведение не математика, и в нем приоритет должен принадлежать не логике. Не собственно логика должна являться объектом правоведения, но жизненные ценности, реальные интересы людей. Иеринг все больше обращает внимание не на логические и даже не на психологические аспекты права, а на его социолого-прагматические, утилитаристские моменты.
Первое место в применяемой им методологии познания права и государства он теперь отводит описанию, классификации и анализу фактов. По сравнению с изучением эмпирического материала оперирование философскими конструкциями начинает играть у него вспомогательную роль. Эмпирический материал рассматривается Иерингом как в историческом, так и в структурно-функциональном измерениях. Уподобляя право организму, Иеринг придает ему «все качества продукта природы: единство во множестве, индивидуальность, рост из себя и т. д.». Рост или развитие права из самого себя как раз и требует исторического подхода к нему. Необходимость именно такого подхода обосновывается и показывается в «Духе римского права». Кроме того, он отмечает: «Каждый организм может подвергнуться двойному исследованию: анатомическому и физиологическому; первое имеет своим предметом его составные части и их отношения друг к другу, т. е. его структуру, второе — его функции. Мы намерены подвергнуть право обоим этим исследованиям».
Реализуя подобное намерение, Иеринг делает особый упор на раскрытии функций права, поскольку он считает, что в любых организмах функции являются носителями их целей. Организм права в данном отношении не исключение. В свою очередь, цели Иеринг приписывает значение правообразующего фактора, правосозидающей силы. Об этом иеринговский труд «Цель в праве».
Здесь, во втором главном сочинении Иеринга гораздо подробнее, нежели в «Духе римского права», рассматриваются истоки и общее понятие права. Отправной пункт рассуждений таков:
«Цель есть творец всего права». Телеологическая (осуществляемая через призму категории «цель») трактовка права, естественно, приводит Иеринга к постановке вопроса о субъекте целеполагания, или — что одно и то же — о создателе права. Не из вакуума и не на пустом месте появляется оно.
Право, по Иерингу, выходит «из рук» общества, которое он интерпретирует как сферу «совместного действия людей, объединенных общими целями; в этой сфере каждьт, действуя для других, действует также для себя, а действуя для себя, тем самым действует и для других». Однако демиургом права у Иеринга выступает не всякое, но лишь государственно-организованное общество. Венчает такое общество аппарат государства, воплощающий социальную, публичную власть. Вот этим-то аппаратом государства в конечном итоге и порождается право. Без каких бы то ни было околичностей Иеринг заявляет:
«Государство — единственный источник права».
Само право характеризуется Иерингом с разных сторон. Прежде всего — со стороны содержания. Им являются интересы субъектов социального взаимодействия, но такие интересы, которые общи всем его участникам; другими словами — интересы общества в целом. Они и составляют содержание права. При одном непременном условии — их защите, гарантировании государством. Право есть защищенный государством интерес. Встречается у Иеринга и несколько иная формулировка того, что образует содержание права: «Право есть совокупность жизненных условий общества в широком смысле, обеспечиваемых внешним принуждением, т. е. государственной властью». Приведенные иеринговские формулировки представляют собой критику волевой теории права, задававшей тон в немецком правоведении первой половины XIX в.
Взятое со стороны своей формы, право характеризуется Иерингом в качестве суммы норм, общеобязательных правил поведения. Тут он не оригинален и не претендует на то, чтобы быть таковым: «Ходячее определение права гласит: право есть совокупность действующих в государстве принудительных норм, и такое определение, по-моему, вполне правильно». Принудительность, сообщаемая государством общеобязательному правилу поведения (этой форме права), служит для Иеринга главным, решающим признаком того, что в сущности есть право и что к нему не относится. Получается, что природа права не присуща изнутри ему самому, а привносится в него государством: «критерий права заключается в принуждении». Иеринг не устает повторять тезис об органичности государственного принуждения праву и благодетельности этого принуждения. Право оказывается обязанным государству не только своим происхождением, но еще и способом существования.
Иеринг не проводит сколько-нибудь серьезного теоретического разграничения права и закона. Сплошь и рядом он считает их явлениями равнопорядковыми, идентичными. Но в действительности они далеко не таковы. Большинство его суждений (особенно высказанных в «Духе римского права», «Цели в праве») фактически имеют своим адресатом закон, а вовсе не право. Это обстоятельство надо тщательно учитывать и при более конкретном знакомстве со взглядами Иеринга на соотношение государства и права.
Отчасти они нам уже знакомы. Дополним их еще лишь некоторыми. «Государство,— утверждает Иеринг,— есть организация социального принуждения». Эта организация не только порождает право, обеспечивает его существование, но и управляет им. Иеринг характеризует в данном свете право как разумно понятую политику, проводимую государственной властью. Оно служит ей (политике), как компас служит капитану корабля. Попечение о праве — важнейшая задача государства. Право не противостоит последнему, а является всецело зависящим от него придатком. Это свойство права быть придатком государства Иеринг подчеркивает очень выразительно:
«Право без власти есть пустой звук, лишенный всякой реальности, ибо только власть, которая проводит в жизнь нормы права, делает право тем, что оно есть»,
Сугубо «государственническое» понимание права Иерингом не совсем привычно (при таком настрое мысли) совмещается у него с признанием необходимости создавать простор для экономической деятельности индивидов, обеспечивать их юридическое равенство, уважать закрепленные за ними политические права. Иеринг ратует за независимость и несменяемость судей, за их ответственность только перед законом и т. д. Он — за твердую дисциплину и законность в обществе, за строгий и стабильный порядок в нем, поскольку считает, что только при этих предпосылках возможно цивилизованное общественно-политическое устройство, нормальное правовое общение, справедливость. Мизантропический, по оценке Иеринга, афоризм «Да восторжествует справедливость, хоть и погибнет мир!» он заменяет жизнеутверждающим призывом «Да торжествует справедливость, чтобы процветал мир!».
Первоначально право имеет односторонне-принудительную силу, направленную на подданных с целью пресечения чрезмерных притязаний частных интересов. Постепенно оно приобретает двусторонне-обязательную силу, становится обязывающим и для самой государственной власти. Иеринг полагает, что забота о самосохранении вынуждает власть подчиняться праву. Властвующие в конце концов осознают: ничем так не укрепляется в подвластных чувство правопорядка, законопослушание, без которых нет прочной государственности, как пример соблюдения норм права представителями власти, государством.
Однако Иеринг не ожидает (тем более не требует) от государства педантичного следования закону. Ему ясно, что законом государственная власть сама себе связывает руки, сама ограничивает свободу собственных действий. «Возникает вопрос о том, до какой степени это необходимо и необходимо ли это раз навсегда во всех случаях проявления этой власти». Ответ на этот вопрос у Иеринга готов, и он не в пользу права, не в пользу закона. Там, где обстоятельства заставляют государственную власть делать выбор между обществом и правом, «она не только уполномочена, но и обязана пожертвовать правом и спасти общество». Иеринг не разъясняет, в какой момент необходимо делать такой выбор и как уберечься здесь от произвола, от предумышленного избавления от «балласта» права. Не удивительно поэтому его скептическое отношение к идее правового государства. Такому государству он вообще отказывает в жизнеспособности. Оно, по мнению Иеринга, «не могло бы просуществовать и одного месяца».
Иеринг переносит на почву правоведения концепцию борьбы как универсального принципа бытия органического мира. Она получила во второй половине XIX в. широкое хождение в европейских научных кругах. Достаточно вспомнить дарвиновскую теорию борьбы за существование, идею классовой борьбы в историографии и социологии. Полемизируя с исторической школой права (Савиньи, Пухта), учившей понимать образование и развитие права как незаметный, безболезненный и мирный процесс, подобный становлению и эволюции языка, Иеринг («Борьба за право») старается доказать нечто противоположное:
«Жизнь права есть борьба, борьба народов, государственной власти, сословий, индивидов». Для него «всякое право в мире должно быть добыто борьбой», «борьба есть работа права» и т. д.
Если бы при этом речь шла о необходимости сопротивляться произволу, устранять беззаконие, добиваться восстановления нарушенных прав, защищать законные интересы, никаких вопросов не возникло бы. Однако у Иеринга призывы к борьбе за право («в борьбе обретешь ты право свое») приобретают особый, вызывающий тревогу смысл. От них веет духом воинственности. Они отдают апологией насилия, поэтизацией борьбы, сражений как некоего возвышенного состояния человеческого бытия: «-л имею мужество открыто признаться в любви к борьбе- нет другого материала, имеющего такую притягательную силу, как борьба и война». Известно, какой страшный урон понесла в XX в. цивилизация от того, что не смогла найти эффективного противоядия восхвалению «притягательной силы борьбы и войны».
Социологическая теория государства. Л. Гумплович
В целом ряде пунктов учению Иеринга о праве и государстве были созвучны политико-теоретические взгляды именитого в свое время австрийского социолога и государствоведа Людвига Гумпловича (1838—1909). Его основные труды по вопросам государства: «Раса и государство. Исследование о законе формирования государства», «Общее государственное право». Свое мировоззрение Гумплович называет реалистическим. В его рамках и с позиций социологии он рассматривает проблемы, связанные с происхождением, сущностью, организацией и ролью государства.
Борьба за существование является, по Гумпловичу, главным фактором социальной жизни. Государство полностью находится в сфере действия данного фактора. Эта борьба — вечный спутник человечества и главный стимулятор общественного развития. Практически она выливается в борьбу между различными человеческими группами. Каждая из них стремится подчинить себе другую группу и установить над ней господство. Очевиден высший закон истории: «Сильнейшие побеждают слабейших, сильные немедленно объединяются, чтобы в единении превзойти третьего, тоже сильного, и так далее». Изобразив подобным образом высший закон истории, Гумплович утверждает: «Если мы четко осознаем этот простой закон, то кажущаяся неразрешимой загадка политической истории будет разгадана нами».
Истоки постоянной беспощадной борьбы человеческих групп между собой Гумплович объясняет неоднозначно. С одной стороны, он указывает в качестве ее причины расовые различия между ними (правда, раса для него не биологический, а прежде всего социокультурный феномен). С другой стороны, он усматривает конечную причину социальных конфликтов в стремлении людей к удовлетворению своих материальных потребностей. Этому стремлению Гумплович придает чуть ли не универсальное значение: «Всегда и всюду экономические мотивы являются причиной всякого социального движения, обусловливают все государственное и социальное развитие». Однако первое объяснение со вторым остаются у него неувязанными.
В самую отдаленную эпоху, полагает Гумплович, конфликты, войны между отдельными родами за овладение тем или иным имуществом завершались уничтожением побежденной группы. Позднее людей из таких групп стали оставлять в живых и превращать в рабов, эксплуатировать. Победители (ими оказывались расы с более высокими интеллектуальными способностя-^ми и лучшей воинской дисциплиной), чтобы упрочить свое господствующее положение и держать в повиновении поверженных, должны были предпринимать ряд организационных и иных мер. Их результатом явилось возникновение государства.
Отныне к войнам между расами и государствами прибавилась еще борьба внутри самого государства. То, что некогда было борьбой антропологически различных Орд, на стадии цивилизации траснформируется в борьбу социальных групп, классов, сословий, политических партий. Сопоставление (если даже не отождествление) конфликтов первобытных орд с взаимоотношениями современных классов и политических партий никак нельзя признать научно корректным. Оно свидетельствует, по меньшей мере, о серьезном недостатке историзма в «реалистической» трактовке Гумпловичем важнейших социально-политических явлений.
Посчитав, что государство формируется в результате подчинения одной человеческой группы (слабейших, побежденных) другой группе (сильнейших, победителей) в качестве средства удержания порядка господства — повиновения, Гумплович выступает категорически против того, чтобы характеризовать государство как орган умиротворения, примирения противоречивых интересов. Ему суждено быть органом принуждения, насилия. Согласно Гумпловичу, существование общества без государственного принуждения невозможно, поскольку всю деятельность любого государства обусловливает в первую очередь потребность охранять и укреплять отношения господства — подчинения, пронизывающие общественное целое сверху донизу, постольку будет верно, полагает Гумплович, квалифицировать государство так: «Естественно выросшая организация господства, призванная поддерживать определенный правовой порядок». Активность государства не ограничивается, по Гумпловичу, одним лишь гарантированием определенного правопорядка. Он чрезвычайно преувеличивает роль государственности. Типично в этом плане следующее его высказывание: «То, чем человек обладает как своим высшим достоянием (кроме данной ему самой природой жизни) свободой и собственностью, семьей и личными правами — всем этим он обязан государству Однако не только отдельный индивид получает высшие ценности из рук государства. Вся совокупность людей, образующих государство, благодаря ему ведет достойное человеческое существование» Приведенное высказывание — образчик откровенной апологии государства, которое желают выдать за благодетеля, заботливого опекуна индивида и общества. Гумплович на австрийской почве продолжил традицию идейно-теоретического обоснования культа государственности.
Дух этого «государственничества» очень заметно отразился на интерпретации Гумпловичем общих вопросов права. Рассматриваемое с внешней стороны, утверждает он, право выступает «лишь воплощением предписаний государственной власти». Изнутри оно наполнено нравственностью, которая служит ему неиссякаемым источником В рождении права решающее слово также принадлежит государству. В догосударственном состоянии не было никакого права. Только будучи кристаллизованной в государственных законах, нравственность становится правом. Последнее целиком обязано государству как своим рождением, так и последующим существованием.
«Для государства,— пишет Гумплович,— право и правопорядок, если на них смотреть с высоты истории, суть лишь средства». Не более того Их физически нет в качестве автономных, отдельных от государства образований. Поэтому Гумплович отрицает наличие «неотчуждаемых прав человека». С его точки зрения, они — иллюзия, плод самообожествления индивида, превознесение ценности жизни человека. Бытие государства совершенно несовместимо с «неотчуждаемыми правами человека». Люди должны выбирать или государство с характерной для него властностью, или анархия. Гумплович, однако, явно сузил диапазон политического выбора Люди XIX и XX столетий имели возможность выбирать не между государственностью и анархией, но между разными конкретными формами государства и типами властвования. Исторический опыт показывает, что здесь не всегда удачными оказывались делавшиеся ими предпочтения.
Оглавление
* ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ*
тел. (495) 728 - 3241; [email protected]
|
|
ЗАКАЗАТЬ РЕФЕРАТ
ЗАКАЗАТЬ КУРСОВУЮ
ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМ
Новости образования
Все о ЕГЭ
Учебная литература on-line
Статьи о рефератах
Образовательный софт
|