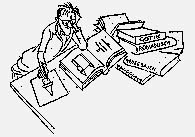| |
* ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ*
тел. 728 - 3241
АБУ АЛЬ-ФИДА (1273–1331), сирийский принц, историк и географ, родился в Дамаске в 1273. Его дядя был правителем Хамы и Сирии. Находясь у него на службе, Абу аль-Фида принимал участие в военных кампаниях против крестоносцев при осаде Триполи и Акки. В 1298 он поступил на службу к мамлюкскому султану Ан-Насиру, а в 1310 стал правителем Хамы. В знак признания заслуг получил титул принца в 1312 и титул султана в 1320. Абу аль-Фида обеспечил рост благосостояния в своих владениях и построил роскошные резиденции в Хаме. Прославился прежде всего как автор двух монументальных трудов: об истории мусульманского мира с 622 по 1329, в котором уделил большое внимание арабской литературе и культуре; и о географии основных регионов мусульманского мира с описанием земель и городов. Умер Абу аль-Фида в Хаме в 1331.
АБУ БАКР, или Абу Бекр (573–634), первый халиф, или преемник Мухаммеда. Родился в Мекке. Очень богатый торговец, он пользовался широким уважением как знаток законов и традиций своего народа, а также как толкователь снов. Мухаммед женился на его дочери Айше, и Абу Бакр сопровождал зятя во время бегства из Мекки в 622. Был преданным последователем пророка, который в последние дни своей жизни передал Абу Бакру руководство общей молитвой. После смерти Мухаммеда в 632 стихийно собравшиеся мусульмане избрали Абу Бакра халифом.
Свою деятельность в сане халифа Абу Бакр начал с успешного покорения мятежных племен в Аравии. Его войсками командовал талантливый военачальник Халид ибн аль-Валид. Окончательно утвердив свою власть, Абу Бакр начал расширять владения халифата за счет соседей. В 633 Халид совершил победоносный поход в Персию, но главной его целью был захват Сирии. В следующем году в битве при Аджнадайне было разбито войско византийского императора Ираклия. Вскоре после этого Абу Бакр умер, дело его продолжил Омар I (Умар I), великий халиф-завоеватель.
АБУЛАФИЯ, АВРААМ (1240 – после 1291), каббалист, родился в Сарагосе (Испания). Не удовлетворившись ни рационалистическими объяснениями божественного бытия, ни тем, что предлагала теософская каббала, он создал свое каббалистическое учение, основанное на использовании священного языка, в надежде достичь общения с Богом. Суровый аскет, он полагал, что контакт с Божеством можно осуществить с помощью постоянной молитвы. Абулафия ввел учение о мистическом значении букв еврейского алфавита и разработал технику т.н. гематрии, позволяющей извлечь новый смысл из самих букв Писания, придавая буквам числовое значение. Считая себя пророком и Мессией, он распространял свое учение в Испании, Италии и Греции. В 1280 предпринял попытку встретиться с папой Николаем III, чтобы убедить его отпустить еврейский народ в Святую землю. Абулафия чудом избежал смерти и, проведя несколько недель в тюрьме, покинул Апеннинский полуостров. Он отправился на Сицилию, а позднее поселился на острове Камино. Абулафия исчезает с исторической сцены в 1291, и нет никаких сведений ни об обстоятельствах, ни о дате его смерти. Среди его трудов – Сефер ха-От (Книга знака, 1285–1288) и Имре Шефер (Прекрасные слова, 1291).
АБХИДХАРМИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ, систематизация буддийской учительской традиции. В ее построении участвовал ряд школ и направлений классического буддизма, например махасангхики, бахушрутии, гокулики, но сохранилась она в наиболее полном виде в традициях тхеравады и сарвастивады. Истоки Абхидхармических текстов (abhidharma означает «высшая дхарма», или «метадхарма», хотя Буддагхоса видит ее «превосходство» лишь в мере детализации материала) вполне различимы уже в тех сутрах Трипитаки, где представлены перечни тематических единиц учения, своего рода таблицы, организованные по различным нумерологическим принципам, предназначенные для запоминания и усвоения (ср. каталоги Ангуттара-никаи палийской Типитаки). Появляются и специальные сутры, характеризуемые как «дистрибуция» предметов (вибханга), а также нумерологические списки диад, триад и т.д., именуемые в палийских текстах матриками (букв. «матрицы»), которые сопровождались учительскими толкованиями. Все эти тексты были рассчитаны не на рядовых буддистов, но на катехизаторов и профессиональных аналитиков. Абхидхармические тексты тхеравадинов составляют семь трактатов Абхидхамма-питаки.
Санскритские абхидхармические трактаты сарвастивадинов, которых также семь (и которые сохранились в китайских, японских и тибетских переводах), оформляются начиная с 3 в. до н.э. Наиболее древние тексты – Сангитипарьяя и Дхармаскандха, средние – Праджняпти-бхашья, Дхатукая, Виджнянакая и Пракаранапада, последний по времени – Джнянапрастхана (1 в. до н.э.). Сангитипарьяя – комментарий к Сангити-сутре, устроенный по характерному для классического буддизма принципу организации предметов учения по числовым группам в восходящем порядке. Калькулируемые тематические единицы располагаются в 10 главах; текст включает 122 классификации, распределяя тематические единицы по монадам, диадам, триадам до декад. Дхармаскандха, приписываемая ближайшим ученикам Будды (по одному преданию, Шарипутре, по другому – Маудгальяяне, что свидетельствует о высоком статусе текста), состоит из 12 глав, посвященных преимущественно сотериологии – этапам продвижения адепта к конечной цели «освобождения». В Дхармаскандхе различаются 37 «членов освобождения» (в тексте различаются «путь практики» и «путь озарения»), за которыми следуют классификации дхарм – по делениям их на «базы» (аятана) и «элементы» (дхату). Праджняптибхашья выпадает из класса «схоластических» текстов: первая ее часть – мифическая космогония, во второй описываются прежние жизни Будды и его матери, третья иллюстрирует действие закона кармы. Дхатукайя классифицирует 90 феноменов сознания, распределяемых по 14 рубрикам (10 феноменов, сопровождающих каждое сознание; 10 феноменов, сопутствующих каждому «загрязнению» сознания; 10 феноменов, сопутствующих каждому «недугу» сознания; 5 «загрязнений»; 5 разновидностей ложных взглядов; 5 контактов; 5 диспозиций менталитета; 5 его «факторов»; 6 разновидностей сознания; 6 чувственных контактов; 6 ощущений; 6 идентификаций; 6 желаний; 6 стремлений), после чего исследуются их взаимоотношения. Виджнянакая представляет обстоятельнейшую полемику сарвастивадинов с буддийскими «еретиками» – пудгалавадинами, придерживавшимися концепции квази-Я, которая не устраивала никого из прочих буддистов своей явной близостью к идее Атмана. Пракаранапада в значительной мере опирается на Дхатукаю; ее предмет – классификации материальных факторов (материальные элементы и их производные), сознание (читта), факторы, сопровождающие сознание, положительные уровни сознания, обретаемые благодаря психотехнике, необусловленные дхармы, а также ряд других классификаций и «тысяча вопросов». Основная тема Джнянапрастханы (приписывается Катьяянипутре) – систематизация ступеней духовного продвижения, опирающаяся на четыре «благородные истины» о страдании. Первая ее глава посвящена истине о пути, вторая – истине о происхождении страдания, третья – познанию, четвертая, пятая и шестая – действию, четырем материальным элементам и чувственным способностям или истине о всеобщности страдания, седьмая – концентрации сознания или истине о прекращении старадания (помимо этого рассматриваются вера, критика представления о реальности тела, ложные взгляды, единичность сознания, память, количество чувственных способностей, прошлое, определения грамматических категорий, истолкования отдельных речений Будды).
Итог сарвастивадинской абхидхармической традиции – Махавибхаша (Великое истолкование) – монументальный комментарий в свободной форме к Джнянапрастхане, созданный в первой половине 2 в. во время третьего собора сарвастивадинов под эгидой знаменитого царственного покровителя буддизма Канишки. Текст составлен в типичной для Абхидхармических текстов катехизисной форме, которая позволяет вводить множество анонимных и конкретных мнений сарвастивадинских учителей (Дхарматрата, Васумитра, Гхошака, Буддадэва и др.) и их разногласия с прочими буддийскими авторитетами и является во многих случаях основным источником наших сведений о них. Махавибхаша состоит из пяти разделов, которые делятся на главы и «параграфы». Среди них особой интерес представляет классификационный анализ предметов «практической» значимости. Среди предметов классификаций в разделе II, главе 1 пять «уз» (бандха) 37 компонентов, охватывающих 30 разновидностей «загрязнений» (клеши) страстей, пять – гордости, а также зависть и себялюбие. Раздел IV, глава 1 открывается обсуждением благого и неблагого поведения в связи с «проявленными» и «непроявленными» действиями, а также 10 путями благоприятной кармы. Рассматривается и взгляд оппонентов сарвастивадинов – вибхаджьявадинов, согласно которым сущность действия включает привязанность, ненависть и ложные взгляды. Различаются четыре разновидности кармы: черно-черная, черно-белая, бело-черная и бело-белая. Первая, худшая, – карма тех, кто предан «собачьему» или «бычьему» образу жизни. Приводятся примеры кармических результатов, большинство из которых иллюстрируют дурные последствия причинения вреда животным. Мнения различных школ разделились в связи с вопросом, какое из «великих злодеяний» наихудшее – убийство матери, отца, совершенного существа, причинение вреда Будде и раскол в общине. Некоторые считают, что хуже всего из перечисленного – преступный ментальный акт. В главе 2 того же раздела выявляется разномыслие ранних саутрантиков и сарвастивадинов. Согласно первым, помимо действий и слов следует признать специфику правильного и неправильного образа жизни. Вторые предлагают рассуждать более «экономно»: и правильный и неправильный образы жизни складываются из соответствующих действий и слов. Все, однако, сходятся в различении «проявленных» и глубинных аффектов, считая, что убийство, воровство, прелюбодеяние, прочие пороки, а также ложные взгляды укоренены в желании, неприязни и заблуждении. Обсуждаются и 12 видов деятельности, которые предполагают «необузданную активность», а также три способа устранения подобных «жизненных стилей». В главе 3 рассматриваются действия, имеющие последствиями пребывание в аду, первое из которых – убийство. В этой связи развертывается дискуссия относительно самого механизма реинкарнации (сансара): некоторые буддийские школы придерживаются взгляда, что между двумя воплощениями можно «вставить» еще и некоторое промежуточное существование (антарабхава). Сторонники данной точки зрения видят ее подтверждение, в частности, и в том, что это промежуточное состояние предполагается самим «вызреванием» плодов пяти «великих злодеяний».
Абхидхармакоша Васубандху (4–5 вв.), в которой абхидхарма определяется как дхарма, направленная на постижение высшей дхармы (нирвана), была задумана как подведение итогов всей предыдущей работы абхидхармистов в области онтологии, психологии (феноменология сознания), космологии, сотериологии.
В махаяне абхидхармическими называются (в порядке имитации классического буддизма) даже тексты содержательно прямо противоположные абхидхармическому схоластицизму, например мистические сутры Праджняпарамиты. Абхидхармические тексты получили распространение в Центральной Азии и на Дальнем Востоке.
АБХИНАВАГУПТА (санскр. Abhinavagupta), теоретик кашмирского шиваизма, жил в 10–11 вв., предпринял широкий синтез тантрических доктрин и практик и создал оригинальную эстетическую концепцию. Абхинавагупта происходил от ученого брахмана Атригупты, которого кашмирский царь Лалитадитья (8 в.) «выписал» из Северо-Восточной Индии, и родился, по тантристским трактовкам, в результате «сакрального» соития своих родителей. Раннюю кончину своей матери Абхинавагупта позднее оценил как положительное обстоятельство; под руководством отца, брахмана-шиваита Нарасинхагупта, Абхинавагупта изучал философию и экзегезу, на его обращение к культу Шивы повлияло изучение поэтики. Абхинавагупта избрал странничество и подолгу жил у различных шиваитских наставников.
Абхинавагупта синтезировал в доктрине трика («[Почитание трех богинь] трезубца») два основных направления шиваитской мысли – спанду (учение об энергетике Божества как «космической вибрации»), разработанную в 9 в. в Шива-сутрах Васугупты и Спанда-карике его ученика Каллаты, и пратьябхиджню (учение об «узнавании» божества), разработанную в 10 в. в трактате Шива-дришти (Созерцание Шивы) Сомананды. Абхинавагупта полагал, что ему удалось «субординировать» учения его предшественников: «ортодоксальный» шиваизм, настаивавший на дуализме Божества и индивидуальной души, и «неортодоксальный» монизм, видевший (под влиянием адвайта-веданты) в душе манифестацию Абсолюта. Абхинавагупте принадлежит и систематизация тантрической йоги – направления крама («постепенность» нисхождения божественных энергий), каула (тантрический эротический ритуал) и пара (почитание «высшей» богини). Абхинавагупта считается автором до 25 сочинений, в том числе трактатов, комментариев, гимнографии.
По Паратримшикавиваране (Разъяснение тридцатистишья о высшей реальности), Абсолют – «высший Шива» – неотделим от своей космической манифестации, в которой покоится и которой одушевляется все сущее (подобно тому, как все мысли покоятся в недискурсивном сознании). Вся человеческая эмоциональность (эстетическая, эротическая и прочая), заряженная космической энергетикой, может быть правильно интенсифицирована для достижения состояния экстаза (чаматкара), а через него для непосредственного постижения высшей реальности. Для последней характерно распространение и концентрация, чередование которых и составляет вибрацию (спанда), определяющую ритм макро- и микрокосма. Пульсирующая космическая энергетика соотносится у Абхинавагупты с «высшим словом» (паравач), которое и есть Шива, осуществляющий миросозидание (идентичное его же мысли) в мистическом соответствии с буквами санскритского алфавита. Миропроявление – иерархия нисхождений Первослова, которое постепенно «снижается» до уровня слов обычной речи в обычном мире (уровни мироздания соответствуют уровням речи). «Креативная медитация» на слог «Саух» (звуковой коррелят сердца) ведет к осознанию идентичности сердец адепта и Божества, реализующейся посредством «со-слияния» (самавеша) и погружения в Высшую речь: здесь Абхинавагупта обещает «освобождение» при жизни, а впридачу всезнание и всемогущество.
Основной трактат Тантралока (Свет тантры) систематизирует преимущественно методы тантрической йоги. После вступления в главах 2–12 рассматриваются четыре средства достижения «освобождения» (упая) с помощью божества: 1) анупая – мгновенное освобождение-смерть; 2) шивопая – самоидентификация, при «нейтрализации» всего индивидуального сознания, с эмоциональным «порывом» Шивы в его космической деятельности (здесь излагаются концепции световой манифестации (абхаса) и отражения мира (пратибимба) и подробно фонематическая космогония); 3) шактопая – интеллектуальное усилие, ведущее к отождествлению себя с космической энергией Божества и непосредственному видению «истины»; 4) анавопая – йогическая техника достижения тождественности с Божеством посредством сакральных формул (мантры) и ритуального чертежа-диаграммы (янтра). Главы 13–26 посвящены обрядам эзотерической инициации (дикша), сложность которых варьирует в связи с интенсивностью той «милости Божества», которой они должны «открыть» адепта. Йогическая интериоризация космического движения призвана вернуть адепта в «исток» его бытия. В главах 27–28 описываются различные формы культовой практики, способствующие непосредственному постижению смысла сакральных шиваитских текстов Агам. Глава 29 посвящена эротическому ритуалу тантрической традиции, в ходе которого предполагается интериоризация единства двух «полюсов» Божества (мужского и женского) и такая степень эмоционального возбуждения (кшобха), при которой может быть достигнуто экстатическое «восхищение». Главы 30–37 содержат подробные описания мантр, янтры, «колеса энергий», особого сложения пальцев (мудра), а также рекомендации по изучению и дальнейшей передаче эзотерических текстов.
Абхинавагупта оказал значительное воздействие на все дальнейшее развитие шиваитского тантризма в Кашмире – как непосредственно, так и через произведения его ближайшего ученика Кшемараджи (монистическая доктрина, культ богини Трирупасундари и т.п.). Влияние его было ощутимо даже в Тамилнаде (знаменитом центре Чидамбарам, где сложилось и направление шиваитской веданты), распространяясь и на тамильскую (санскритизированную) письменность вплоть до 19 в. Можно говорить о влиянии Абхинавагупты на дальнейшую эволюцию вишнуитского тантризма (преимущественно в течении панчаратриков) и «мистифицированной» эстетической теории.
АБХЪЮДАЯ (санскр. abhyudaya – «подъем», «возвышение»), в индийской философии «успех» и «преуспеяние» (в том числе духовно-нравственное), результативное и для настоящей и для последующих жизней индивида, но все же далекое еще от «освобождения». В Вайшешика-сутрах абхъюдая, наряду с конечным благом (нихшреяса), от которого она, таким образом, отделяется, – один из двух основных результатов дхармы. Уточняется, что «возвышение» является результатом осуществления дхармы, производимого следованием ведийским предписаниям, должным обращением с почтенным брахманом, благословением и т.д., – противоположный результат дает, например, общение с «нечистым» брахманом. В комментарии к этой сутре Шанкара Мишра (15 в.) интерпретирует абхъюдаю как «удовольствие», «счастье».
У знаменитого грамматиста и философа-ведантиста Бхартрихари (5 в.) абхъюдая – некая «моральная сила», ведущая индивида в направлении конечной цели – его самоотождествлению с Брахманом (этот результат достигается благодаря правильному употреблению грамматических форм). Таким образом, она трактуется в данном случае как определенное средство реализации конечного блага. Однако в полемике ведантистов с мимансаками акцентируется оппозиция абхъюдаи и конечного блага. Шанкара в Брахма-сутрабхашье противопоставляет абхъюдае, интерпретируемой как «успех», являющийся результатом познания дхармы (основная задача мимансаков) и зависящий от реализации соответствующих средств, конечное благо как познание Брахмана: «Познание дхармы имеет результатом успех (абхъюдая) и зависит от [употребляемых] средств. Познание же Брахмана имеет результатом высшее благо (нихшреяса), от [употребляемых] средств не зависимое». «Высшее благо» и «успех» соотносятся ведантистами в контексте противопоставления друг другу основных объектов познания в веданте и мимансе. Дхарма, в которой укоренен «успех», познается в связи с будущим – будущими плодами нынешнего человеческого действия (совершение того или иного обряда), тогда как Брахман – как вечно-настоящее и вечно-присутствующее. Различается и характер предписаний (чодана) в связи с дхармой и познанием Брахмана: в первом случае они «привязывают» ум человека к определенным желаемым объектам, во втором только пробуждают человеческое разумение. Определенный компромисс, казалось бы, намечается во вступлении к комментарию Шанкары к Чхандогья-упанишаде, где абхъюдая толкуется как совокупность средств, которые ведут к «высоким целям», близким к «освобождению» и соотносимым с «модифицированным Брахманом» (Брахманом, понимаемым на уровне конвенциональной, условной истины). Однако в комментарии Сурешвары (8 в.) к комментарию его учителя Шанкары к Брихадараньяка-упанишаде абхъюдая уже значительно «понижается»: она соотносится с самым обычным мирским процветанием, которому противопоставляется «освобождение». Конечная интерпретация абхъюдаи в ранней веданте принадлежит, по-видимому, современнику Сурешвары, другому ученику Шанкары – Падмападе, который в Панчападике уточняет, что некоторые ведантийские тексты посвящены не только истинному познанию Брахмана, но и ускоренному «вызреванию» кармы, ведущей на небо, что и отождествляется с абхъюдаей.
В итоге духовный уровень абхъюдаи оказывается величиной переменной: ее статус колеблется между «почти освобождением» и обычным мирским успехом, соотносимым не только с дхармой, но и с совершенно земными целями человеческого существования – артхой и камой. Средний же уровень статуса ахъюдаи можно условно определить как относительное благо, которому противопоставляется благо абсолютное.
АВАНГАРД В РУССКОЙ МУЗЫКЕ. В русском музыкальном авангарде следует различать две его принципиально разные генерации: авангард 1910–1920-х годов и авангард 1960–1980-х годов. Хотя между ними имеется некоторая преемственность (например, лидер «второго авангарда» Э.В.Денисов основал в Москве Ассоциацию современной музыки, взяв название, существовавшее в 1920-е годы, и стремился пропагандировать в России творчество некоторых представителей «первого авангарда», в частности Н.А.Рославца), она не носит существенного характера.
Авангард 1910–1920-х годов. Первый русский музыкальный авангард не имел столь четкой оформленности, как литературный или живописный авангард того времени, но довольно часто к нему, как и к явлениям в параллельных искусствах, применяют термин «футуризм». В русле этого движения можно назвать таких композиторов, как Н.А.Рославец, И.А.Вышнеградский, Н.Б.Обухов, А.С.Лурье, А.М.Авраамов, И.Шиллингер (а также, возможно, Е.Голышев, А.В.Мосолов и др.); некоторые вышеназванные музыканты после революции покинули Россию и продолжали – как правило, в безвестности – развивать свои новации в других странах (во Франции – Вышнеградский, Обухов, Лурье; в США – Лурье, Шиллингер); остававшиеся в стране (Рославец, Авраамов, а также их младшие коллеги) должны были с начала 1930-х годов сменить ориентацию и заняться иными видами музыкальной деятельности.
Исследователи отмечают, что ранний музыкальный авангард – явление «неочевидное», весьма неоднородное и оставившее сравнительно мало оформленных музыкальных опусов. Главным здесь был поиск некоего «нового мирослышания», «звукового миросозерцания», который отражался как в музыкальной ткани, так и в литературных манифестах (например, статья Н.Кульбина Свободная музыка, манифесты М.Матюшина К руководству новых делений тона, Лурье К музыке высшего хроматизма, Авраамова Универсальная система тонов; крупные теоретические трактаты Обухова и Вышнеградского и т.д.) и в «артефактах», каковы, например, первая футуристическая опера Победа над солнцем Крученых – Матюшина – Малевича – Хлебникова (1914) или Симфония гудков Авраамова (1922, «действо» фабричных гудков, проведенное в разных городах для оформления праздничных дат революционного календаря).
В русле «нового мирослышания» переосмысливались многие основные музыкальные категории – звук, звуковысотная система, тембр, гармония и т.д. Почти все ранние авангардисты так или иначе занимались обновлением традиционной системы темперирования и изобретали новые системы деления тонов (из них самой реальной была четвертитоновая, но появлялись и разные другие; наиболее углубленно занимался этим до конца своих дней Вышнеградский). В связи с обновлением темперации («освобождением звука») вставал вопрос о новом отношении к звуку, о «новой сонорности». В идеале футуристы стремились к изобретению новых инструментов или устройств, соответствующих такому подходу: здесь может быть назван знаменитый терменвокс (первый в мировой практике электроакустический инструмент, построенный инженером Л.С.Терменом и допускающий любые микроградации звука), а также электроакустические инструменты Обухова «Эфир» и «Кристалл», предвосхищающие более известные, но построенные позже французские «волны Мартено» или «Croix sonore», смычковый полихорд Авраамова и т.д. Эти инструменты давали принципиально новую сонорику, но столь же часто предпринимались попытки «усовершенствовать» традиционные фортепиано, орган и т.д., применить новые приемы игры на них (а также совместить по-разному настроенные традиционные инструменты – например, два фортепиано, настроенные с разницей в четверть тона). В очень известном в свое время опусе Мосолова Завод. Музыка машин (1928) звуковая картина работающих механизмов ярко изображается средствами традиционного оркестра.
В связи с новой сонорикой стоят и идеи «пространственной музыки» – по выражению Лурье, достижения «третьего измерения», «глубины звуковых перспектив», что могло осуществляться либо расширением акустических границ по вертикали – использованием крайних регистров инструментов, либо такой организации ткани, при которой важна как музыка слышимая, так и музыка «неслышимая» – «звучащие» паузы, лиги, ферматы, разного рода глиссандо, отзвуки, направленные на размывание границ звука. Кроме того, конечно, предпринимались попытки разных размещений и перемещений исполнителей в реальном пространстве.
Иначе говоря, главной концепцией музыкального футуризма становилось раскрепощение звуковой массы. Еще одним подходом являлась «ультрахроматическая» гармония, которую русские авторы выводили из стилистики позднего Скрябина – они вообще часто видели в этом композиторе своего предтечу, и не только в плане технологическом, но и в плане духовном, ибо большинство из них, как и Скрябин, имели отношение к тому явлению, которое ныне принято называть «русским космизмом». Поскольку гармоническое письмо позднего Скрябина приближалось к 12-тоновости, т.е. к функциональному равенству 12 тонов хроматической гаммы, то естественно, что его последователи нередко приходили к разным видам додекафонии, то есть, употребляя термин «официального» изобретателя додекафонии Арнольда Шёнберга, к «технике композиции с 12 тонами», которая рассматривалась как замена традиционной тональности. Хотя ранние сочинения Шёнберга своевременно исполнялись в России, русские авторы двигались к своим 12-тоновым методам собственными путями, и их системы отличались от шёнберговской, а некоторые появились раньше.
Гораздо менее значительны новации ранних авангардистов в области формы: чаще всего используются традиционные схемы либо произведение является лишь «фрагментом», «опытом»; в некоторых случаях все творчество (вкупе с биографией творца) рассматривается как некое единое, продолжающееся произведение искусства (Книга жизни, по Обухову). В связи с этим можно заметить, что для таких авторов, как Вышнеградский и Обухов (и для некоторых других тоже), характерна напряженная мистическая настроенность (у этих двоих ориентированная на христианство).
Как уже говорилось, влияние раннего русского музыкального авангарда на авангард 1960–1980-х годов практически не прослеживается – он был просто неизвестен (лишь в 1980-е годы начинаются исполнения сочинений таких авторов, как Рославец, Мосолов, Лурье, – т.е. оставивших законченные и «удобные» для презентации опусы). Определенное, хотя и опосредованное влияние оказали на западных музыкантов жившие во Франции Обухов и Вышнеградский (в частности, их высоко ценили О.Мессиан и П.Булез, хотя исследования их творчества и исполнения их музыки относятся в основном к последним десятилетиям).
Авангард 1960–1980-х годов. Говоря о «советском музыкальном авангарде» (или о «русском послевоенном музыкальном авангарде»), обычно имеют в виду группу композиторов, выступивших на авансцену в начале 1960-х годов или немного позже. Хронологически (и идеологически) первым авангардистом этой волны следует считать А.М.Волконского, который приехал в СССР с семьей из эмиграции (1947), успев получить на Западе как первоначальное музыкальное образование, так и общее представление о происходящем в художественной жизни. Продолжив обучение в Московской консерватории, он начал сочинять в серийной технике Шёнберга и Веберна (Сюита зеркал, 1959 и Жалобы Щазы, для сопрано и камерного ансамбля, 1960). К группе «авангарда», которую вскоре возглавили три московских автора – Э.В.Денисов, С.А.Губайдулина, А.Г.Шнитке, на некоторое время присоединялись в этот период и другие авторы, например Н.Н.Каретников (остался до конца стойким приверженцем додекафонии), С.М.Слонимский, Р.К.Щедрин, Б.И.Тищенко, А.С.Караманов, на Украине – В.В.Сильвестров, Л.А.Грабовский, в Азербайджане – К.А.Караев, в Эстонии – А.Пярт и т.д. Характерной особенностью музыкального авангарда на территории СССР нередко становилась «фольклорная окрашенность», когда новые техники применялись к разработке народных напевов, желательно в их «сыром», непосредственно у народных певцов записанном виде (например, нетемперированный строй русской крестьянской песни мог совмещаться с авангардистской микроинтервальной техникой).
Хронологически первой осваиваемой «советским авангардом» техникой был сериализм (в разных видах), затем сонористика, а также алеаторика (композиция по принципу случайности); одновременно началось развитие электронной музыки. Довольно скоро «чистые» системы уступили место разным смешанным техникам: появились понятия «коллажа» (т.е. цитирования «чужого слова») и т.н. полистилистики – термин Шнитке, чьи сочинения наиболее ярко представляют данное явление. В этом пункте к началу 1970-х годов русский авангард «совпал» с некоторыми тенденциями западного искусства. Ко второй половине 1970-х годов, по наблюдениям критиков, стали складываться явления, называемые «новым традиционализмом», неоромантизмом, «новой простотой» и т.д. Они отразились и в творчестве корифеев музыкального авангарда – например у Губайдулиной, в основе техники которой в принципе лежит тембровая композиция, или у Денисова, в поздних сочинениях которого расширяется жанрово-стилистический спектр, и очень выпукло у Пярта, который пришел к религиозному искусству аскетичной «новой простоты».
Вообще, к началу 1990-х годов или даже раньше в русской музыке, как и в западной, авангард «закончился», т.е. исчез как явление с лидерами, организационной структурой и стилистическими параметрами. Группа композиторов «средне-молодого» возраста, которая продолжает именовать себя «авангардом», движется скорее по инерции, не встречая при этом никакого сопротивления (ее представительный орган – фестиваль Московский форум, принятый в качестве филиала Международного общества современной музыки). Конечно, само появление авангардизма на отечественной почве в 1960-е годы было связано с феноменом «приоткрывшегося» после долгих десятилетий огромного окружающего мира, с естественным стремлением узнать и освоить все, что было сделано на Западе в этот период. Подобное стремление было свойственно отнюдь не только тем, кого принять называть «авангардистами», – его испытало тогда большинство представителей всех видов искусств и читающая, слушающая, посещающая выставки публика. «Авангардизм» был крайним выражением этой тенденции и у многих – всего лишь этапом пути. Но следует принять во внимание, что в рамках СССР любой «авангард», в том числе музыкальный, был, помимо прочего, политическим явлением, актом сопротивления, и именно в таком качестве понимался и поддерживался на Западе. C распадом СССР политическая основа движения практически исчезла, хотя некоторые спекуляции в этой области продолжаются. Западная же поддержка в прошедшие десятилетия привела к тому, что в сознании музыкальной общественности разных стран вся русская музыка 20 в. в период после Прокофьева и Шостаковича представлена лишь тремя именами: Шнитке – Денисов – Губайдулина (появился даже термин «русская тройка»).
* ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ*
тел. 728 - 3241
* ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ*
тел. 728 - 3241
|
|
ЗАКАЗАТЬ РЕФЕРАТ
ЗАКАЗАТЬ КУРСОВУЮ
ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМ
Новости образования
Все о ЕГЭ
Учебная литература on-line
Статьи о рефератах
Образовательный софт
|